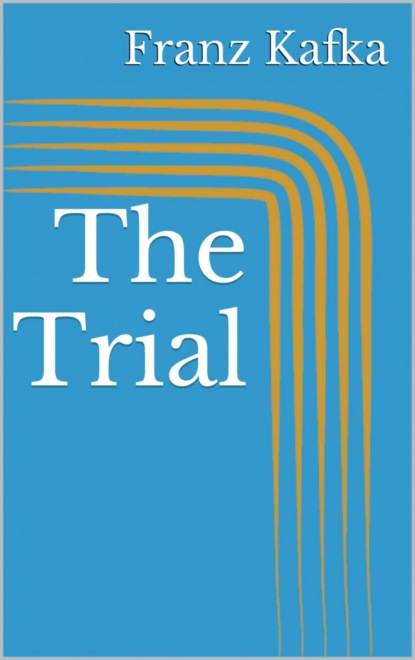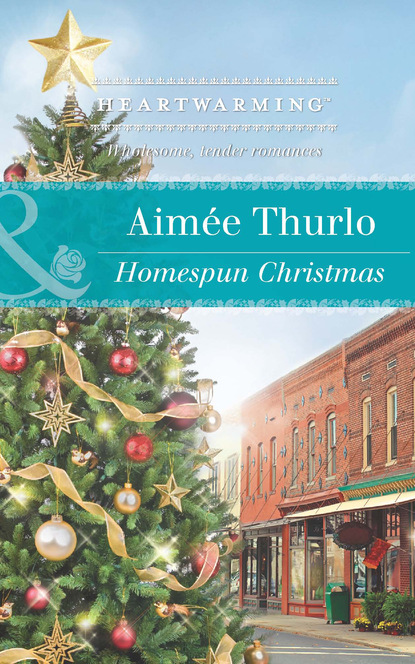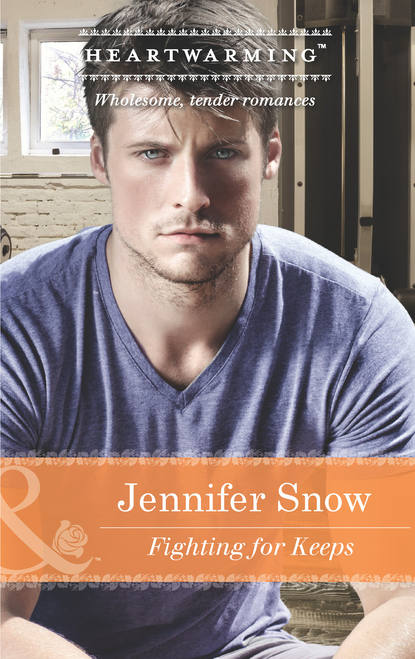Дикая Охота: Легенда о Всадниках

- -
- 100%
- +
– Он не строчка в твоём журнале, Лоран! – закричала я. – Он был моим братом! Он был тёплым, он дышал, он смеялся! А ты хочешь превратить его в головоломку!
– Нет! – его голос стал твёрже. – Я хочу превратить его в знамя! В причину бороться! Я не предлагаю тебе найти утешение в пыльных книгах, Селеста. Я предлагаю тебе найти оружие. Знание – это единственное оружие, которое у нас есть против них. Против страха.
– Оружие? – я истерически рассмеялась. – Против них? Уходи, Лоран. У меня нет сил на твои сказки. У меня нет сил ни на что.
– Ты права, – тихо сказал он, и в его голосе не было обиды, только бесконечная усталость и горечь. – Прости. Я не должен был. Не сейчас. Скорби нужно время, а не ответы. Прости меня.
Но я его уже не слышала.
– Уходи, – прошептала я, отворачиваясь. – Пожалуйста, уходи. Я хочу побыть одна.
Он постоял ещё мгновение в нерешительности. Я чувствовала его взгляд на своей спине. Потом услышала, как скрипнула дверь и он ушёл.
Я осталась одна посреди пустой комнаты. Снаружи светило солнце, пели птицы. А в моей душе была только зима. И эхо его слов: «Я предлагаю тебе найти оружие». Глупость. Безнадёжная, отчаянная глупость.
Но почему-то эта глупость, как крошечное, упрямое семечко, упала на мёрзлую почву моей души. Йен искал. Йен боролся. И я, его сестра, просто лягу и буду ждать, пока горе не поглотит меня целиком? Я вспомнила его последние слова, его взгляд. Он просил меня жить. А жить – это не просто дышать.
Семечко, брошенное Лораном, не умерло. Оно начало прорастать.
Если вам понравилась глава и вы ждете продолжения – подписывайтесь на мой телеграм-канал: Адель Малия | автор. А ещё там много информации о других книгах и расписание выхода глав❤️
Глава 6: Похороны пустоты
Pompeii – Bastille – Глава 6
Тишина после бури оказалась гуще и тяжелее, чем сам крик. Она висела в нашем доме плотной пеленой, впитываясь в стены, в грубую ткань скатерти, в наши кожи. Каждый звук – скрип половицы, звон ложки о глиняную миску – казался кощунственно громким, нарушающим установившийся траурный порядок. Мы двигались по дому, словно опасаясь разбудить кого-то, хотя единственным, кого нельзя было разбудить, был Йен.
Мать молча поставила передо мной миску с овсянкой. Её пальцы, обычно такие тёплые и уверенные, теперь были ледяными и слегка дрожали, едва не выронив посуду. Я машинально взяла её руки в свои, пытаясь согреть. Кожа её ладоней была шершавой, исцарапанной годами работы, но сейчас она казалась хрупкой, как старый пергамент.
– Спасибо, мама, – прошептала я, но она лишь безучастно кивнула, её взгляд был устремлён куда-то внутрь себя, в бездну собственного горя. Она не плакала. Слёзы, казалось, выжег тот самый ночной огонь, что забрал её сына.
Отец сидел напротив, сгорбившись, а его мощная спина согнулась под невидимым грузом. Он уставился в столбики пыли, пляшущие в луче света из окна, будто пытаясь разгадать в их хаотичном движении какой-то смысл. Его большие, покрытые шрамами и мозолями руки лежали на столе ладонями вверх, пальцы непроизвольно сжимались и разжимались, будто всё ещё пытаясь что-то удержать – топор, плуг, сына.
Я заставила себя есть. Овсянка была безвкусной массой, которую было трудно проглотить. Ком в горле стоял колом, и каждый глоток приходилось буквально проталкивать внутрь. Но я ела. Это было маленькое, ежедневное усилие, попытка сохранить связь с миром, который рухнул вчера ночью. Вчерашняя истерика выжгла меня дотла, оставив после себя не пустоту, а холодную, стальную решимость. Узнать. Понять. Не для того, чтобы вернуть – эта надежда была похоронена в грязном поле, – а чтобы его уход не стал просто строчкой, одной из многих.
Внезапно я вспомнила лицо Лорана – растерянное, обиженное, в последний миг перед тем, как я захлопнула перед ним дверь. Острый стыд скрутил мне желудок. Я набросилась на единственного человека, который предложил не смириться, а действовать.
– Мне нужно… найти Лорана, – тихо сказала я, и мой голос, хриплый от слёз, прозвучал неестественно громко в давящей тишине. – Извиниться.
Отец медленно поднял на меня глаза. В них не было ни осуждения, ни одобрения – лишь животная усталость.
– Кому? А, к парню тому, с книжками… – он махнул рукой. – Делай что должна, дочка. Нам уж всё равно. Всё равно.
Он тяжело вздохнул, и его плечи снова ссутулились.
– Пора, – прохрипел он через несколько минут, с нечеловеческим усилием поднимаясь из-за стола. Кости его затрещали. – Одевайся. Не заставляй людей ждать.
Мы надели самое тёмное, что у нас было. Чёрное платье матери висело на ней мешком, подчёркивая резко проступившие ключицы и впалые бока. Она механически повязала на голову старый чёрный платок, и он сделал её лицо крошечным, испуганным, как у ребёнка. Отец натянул свой единственный потёртый кафтан, и ткань натянулась на его напряжённых плечах. Мы вышли из дома.
На улице нас встретил холодный, влажный ветер. Он сразу же пробрался под одежду, заставив меня сжаться. Мы влились в медленный поток людей, двигающийся к кладбищу. Никто не разговаривал. Лишь шарканье ног по мокрой земле, прерывистое дыхание да изредка сдавленный всхлип нарушали гнетущее молчание. Я шла, глядя в спину отца. Его широкая спина, всегда бывшая для меня символом незыблемой защиты, теперь казалась хрупкой, готовой сломаться под тяжестью невидимого груза.
Кладбище на холме встретило нас пронизывающим до костей ветром и едким запахом свежевскопанной глины. Этот запах въелся в ноздри, стал вкусом горя. У зияющей чёрной ямы стоял простой, грубо сколоченный сосновый гроб. Пустой. Само его существование было самым чудовищным, самым циничным жестом. Мы собрались, чтобы предать земле не тело, а надежду. Мы хоронили саму возможность того, что он может вернуться.
Староста Хенрик взошёл на небольшой пригорок. Его лицо было невыспавшимся.
– Друзья… соседи… – начал он, а затем сглотнул и поправил воротник. – Мы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь Йена, сына Эрика и Мары… В эти тёмные времена мы должны быть сильными. Держаться вместе. Память о нём… его сила… его дух…
Я перестала слушать. Слова были правильными, заученными и отполированными множеством таких же похорон. Они отскакивали от ледяной стены моего горя, не находя отклика внутри. Я смотрела на этот жалкий деревянный ящик, на его дешёвые, неотёсанные доски, и чувствовала, как из-под пепла отчаяния пробивается знакомый, почти забытый жар. Ярость. Она была живой, горячей, и она была лучше ледяного оцепенения.
Затем вперёд вышел Элиас. В его руках – та самая толстая кожаная книга, скорбная летопись нашего страха.
– Йен, сын Эрика и Мары. Унесён Тёмными Всадниками в семнадцатую ночь девятой осени их визитов. – Он сделал маленькую паузу, и воздух застыл. – Он стал двенадцатой жертвой из нашей деревни. – Элиас захлопнул книгу с глухим, финальным стуком. – Его имя записано. Его не забудут.
«Двенадцатая жертва». Эти слова вонзились в меня, как отравленный клинок. Он превратил всю жизнь моего брата – его ярость, его редкий смех, его упрямство, его боль – в сухую, безликую статистику. В строчку в гроссбухе. Холодная ярость мгновенно вспыхнула, стала жгучей, кислотной ненавистью. Я впилась ногтями в ладони, и острая боль принесла странное, почти животное облегчение.
Начался ритуал. Люди подходили по одному и бросали в яму по горсти влажной, тяжёлой земли. Звук был глухим, пугающе пустым.
Туки-тук-тук.
Каждый удар отдавался эхом в моей собственной грудной клетке, будто закапывали меня саму. Мать подошла к краю. Её тело содрогнулось в беззвучном, страшном спазме. Отец, не отпуская её руки, своей свободной ладоней зачерпнул земли и бросил её вниз. Его лицо было маской из камня и боли.
Когда подошла моя очередь, я замерла на краю. Я не могла. Не могла совершить этот жест капитуляции. Не могла бросить горсть земли в лицо его памяти. Я просто стояла и смотрела в чёрную, сырую глубину, и внутри всё сжималось в тугой комок.
Люди начали расходиться. Тихо, понуро, не глядя друг на друга. Но я заметила группу людей, оставшихся в стороне. Столичные чиновники. В своих добротных, тёплых плащах, с гладкими, сытыми лицами, они выглядели пришельцами с другой планеты. Теперь, когда церемония окончилась, они деловито подошли к Хроникам. Тот самый Краснолицый, которого я запомнила в таверне, что-то быстро и настойчиво говорил Элиасу, тыча коротким толстым пальцем в развёрнутый на ладони лист бумаги. Элиас кивал, его лицо оставалось непроницаемой маской бюрократа. Другой, Остроносый, о чём-то расспрашивал одного из младших Хроников – юношу с испуганными глазами. Тот нервно покусывал губу, переминался с ноги на ногу и бросал униженные взгляды на своего начальника.
Они работали. Составляли отчёты. Описывали нашу боль, наш разорванный на части мирок на своём казённом, бесчувственном языке. Мой брат для них был не трагедией, а инцидентом. «Случаем № 12», требующим аккуратной фиксации и подачи в вышестоящие инстанции. Кровь ударила мне в голову. В висках застучало. Я почувствовала, как дрожь бежит по моим рукам, как сжимаются кулаки, и ногти снова впиваются в заживающие ранки на ладонях.
– Селеста.
Тихий, но твёрдый голос заставил меня вздрогнуть и оторваться от созерцания этой мерзости. Я обернулась. Рядом стоял Лоран. Он был бледен, под его глазами залегли глубокие, синеватые тени, словно он не спал всю ночь. На нём был тот же серый плащ Хроника, но сейчас он висел на нём мешком, подчёркивая внезапную худобу.
– Как ты? – спросил он. Его голос был тихим, но в нём не было деловой чёткости, только усталая, искренняя тревога. Он не спрашивал «Как вы?», обращаясь ко мне и к родителям. Он спрашивал именно меня.
Я лишь покачала головой, сжав губы. Слова снова застряли в горле. Я снова бросила взгляд на чиновников, и моё лицо исказила гримаса чистого, неподдельного отвращения.
– Смотри на них, – прошипела я, и голос мой зазвучал хрипло, почти по-звериному. – Как стервятники. Приехали поклевать трухлявые остатки.
Лоран проследил за моим взглядом, и его лицо омрачилось, стало жёстким.
– Это их работа, – сказал он без всякого оправдания в голосе. – Они фиксируют, сводят данные и составляют отчёты для столицы.
– Отвратительная работа, – выплюнула я. – Они превращают его в цифру. Всего лишь в «двенадцатую жертву». Они даже не знали его. Не видели, каким он был.
Я снова повернулась к нему, глотая подступивший к горлу ком. Нужно было это сказать. Сейчас.
– Лоран… – я начала, и голос снова предательски дрогнул. – Прости меня. За вчера. Я не должна была… так кричать на тебя. Ты… ты единственный, кто не предложил просто плакать. Ты предложил… действовать.
Он мягко, почти неслышно вздохнул. Его плечи немного опустились.
– Забудь. Пожалуйста. Я сам был неправ. Лезть с вопросами, с моими глупыми теориями в такую минуту… это было жестоко. Я не подумал. Я видел только загадку, а не твою боль.
Мы стояли молча, плечом к плечу, глядя на почти засыпанную землёй яму. Его близость, его молчаливое присутствие были неожиданно утешительными. Он не пытался обнять меня, не говорил пустых слов утешения. Он просто был рядом. И в этом была какая-то странная сила.
– Что теперь? – наконец спросила я чуть твёрже, чем ожидала. – Есть хоть что-то? Любая мелочь?
Лоран нахмурился, а его брови сдвинулись. Я видела, как он мысленно погружается в свои данные, в свои схемы. Это было его оружие, его способ бороться.
– Почти ничего. Кроме одного… очень странного отклонения от паттерна. – Он посмотрел на меня прямо, и в глубине его уставших глаз зажёгся тот самый знакомый огонёк аналитика. – Всадники никогда не приходили в нашу деревню две ночи подряд. Ни разу за все девять лет наблюдений. Были единичные случаи, когда они забирали одного из наших, на следующий день приезжала делегация из столицы, и уже следующей ночью они возвращались и забирали кого-то из гостей. Но два наших подряд… Такого не было никогда. Это статистическая аномалия. Выброс.
Его слова – «аномалия», «выброс» – упали в моё сознание, как камни в спокойную воду, расходясь кругами новых вопросов. Исключение. Йен был исключением. Его слова, его лихорадочный, пропахший дымом и страхом бред в поле, снова отозвались в памяти: «Они приходят за теми, кто горит изнутри! Я звал их!»
– Что это значит? – выдохнула я, чувствуя, как учащается моё дыхание, а сердце начинает биться чаще. – Лоран? Что это значит?
– Я не знаю, – честно признался он, и в его голосе не было и тени лукавства. – Может, ничего. Просто слепая случайность. Сбой в их… алгоритме, если он у них есть. А может… – он сделал паузу, подбирая слова. – А может, это значит, что с Йеном было что-то не так. Что-то, что отличало его от всех предыдущих. Какая-то причина, которую мы не видим и не понимаем.
Причина. Не слепая, бессмысленная судьба, а причина. Это слово было как глоток ледяной, но чистой воды после удушья. Оно не обещало чуда, но обещало смысл. Понимание.
Я посмотрела на Лорана – на его умные, уставшие глаза, на его тонкие, сжатые в напряжённую линию губы. Он не предлагал мне пустых утешений или жалости. Он предлагал мне партнёрство в расследовании. Загадку, которую нужно разгадать. И это было именно то, что мне было нужно сейчас. Не объятия, а цель. Не слезы, а задача, которая могла отвлечь от всепоглощающей боли, дать точку опоры.
– Я должна быть с ними, – тихо, но очень чётко сказала я, кивнув в сторону родителей. Мать почти вся повисла на отце, и казалось, ещё немного – и он рухнет под этой тяжестью, физической и моральной. – Сейчас. Сейчас они сломаны. Им нужна я. Нужно просто пережить эти первые дни. Самые страшные. Я должна помочь им, просто быть рядом. Готовить, убирать, молчать… просто быть.
Лоран молча кивнул. Он понимал. В его взгляде читалось не просто согласие, а уважение.
– Но потом, – продолжила я, и голос мой окреп, обрёл новые, металлические нотки решимости, – потом я приду к тебе. В архив. Как ты и предлагал. Сегодня. Завтра. Как только смогу.
На его лице мелькнуло удивление, быстро сменившееся глубокой, безмолвной серьёзностью. Он не улыбнулся, не проявил радости. Он снова просто кивнул, уже более твёрдо, как солдат, принимающий приказ.
– Я буду ждать. В любое время дверь будет открыта для тебя.
– Я не могу просто… смириться, – сказала я, будто наконец-то осознав эту мысль для самой себя. Я неожиданно для себя протянула руку и коснулась его руки. Его пальцы были холодными от ветра, но крепкими. – Похоронить его здесь, в этой яме, и сделать вид, что жизнь просто продолжается… что ничего не произошло… это было бы предательством. По отношению к нему. Если есть хоть малейший шанс что-то понять… узнать, почему именно он… докопаться до любой, самой маленькой детали… это будет… это будет правильно. Это будет по-человечески.
– Я тоже так думаю, – тихо, но очень внятно ответил он. Его пальцы на мгновение ответили на моё прикосновение, и я почувствовала легкое давление. – Это единственный способ бороться. Единственное оружие, которое у нас есть против бессмысленности. Знание.
Мы стояли у засыпанной могилы, и ветер трепал наши волосы, забирался под одежду. Но впервые за эти два дня я почувствовала под ногами не зыбкую почву горя, а что-то твёрдое, незыблемое. Наш разговор, это мимолётное, но важное прикосновение – это было не просто обменом словами. Это был договор. Безмолвная клятва, данная над свежей могилой.
Среди этого царства смерти, страха и бюрократического безразличия мы с ним только что посадили крошечное, хрупкое, но живучее семя. Семя надежды. Не на чудо, а на знание. И я чувствовала, как сквозь ледяную толщу отчаяния и боли во мне медленно, но упрямо прорастает стальная решимость. Я была готова взять в руки это оружие. Я была готова бороться.
Если вам понравилась глава и вы ждете продолжения – подписывайтесь на мой телеграм-канал: Адель Малия | автор. А ещё там много информации о других книгах и расписание выхода глав❤️
Глава 7: День, растянувшийся в пустоту
Вернувшись с кладбища, мы молча разошлись по дому, как по своим углам раненые звери. Ритуал был соблюдён, а долг перед деревней исполнен. Теперь предстояло самое трудное – остаться наедине с тишиной, которую уже не нарушал бы его ровный храп за перегородкой.
Я машинально взялась за работу. Руки сами знали, что делать. Подмести пол, протереть пыль с полок, поправить скатерть. Каждое движение было привычным, и в этой привычности был крошечный островок стабильности в мире, который рухнул. Я вытирала грубый деревянный стол, чувствуя под тряпкой каждую занозу, каждую трещинку. На этом столе его ложка всегда стояла рядом с моей. Теперь её не было.
Мать сидела на лавке у печи, не двигаясь. Она смотрела на остывающие угли, и её лицо было неподвижным, как маска. Я подошла, положила руку ей на плечо. Под тонкой тканью платья чувствовалась кость, хрупкая и беззащитная.
– Мама, – тихо сказала я. – Сварить тебе чаю? Или просто посидим?
Она медленно покачала головой, не отрывая взгляда от печи.
– Не надо, дочка. Не надо чаю. – Голос её был глухим, безжизненным. Она погладила мою руку своими холодными пальцами. – Иди, отдохни. Ты вся измучена.
Но отдыхать было нельзя. Остановиться – значит позволить боли накрыть с головой. Я увидела его грубую куртку, висевшую на гвозде у двери, с потёртостями на локтях. Я не удержалась и прикоснулась к рукаву. Ткань была шершавой и холодной. Ничего от него не осталось. Ни запаха, ни тепла. Только эта пустая оболочка.
Из груди вырвался сдавленный звук, нечто среднее между стоном и вздохом. Мать вздрогнула и обернулась. Увидев меня с курткой в руках, её лицо исказилось гримасой страдания.
– Убери, Селеста, – попросила она, и в её голосе впервые прозвучала слабая дрожь. – Пожалуйста, убери. Не могу я на это смотреть.
Я кивнула, сжала куртку в комок и отнесла в старый шкаф, сунув в самый тёмный угол. Сердце бешено колотилось. Казалось, я только что совершила предательство.
Отец всё это время молчал. Он вышел во двор и принялся с яростью колоть дрова. Я слышала через стену мерные, гневные удары топора, свист рассекаемого полена и его тяжёлое, прерывистое дыхание. Это был его способ плакать. Способ, который он разрешил себе.
К полудню я почувствовала, как голова начинает раскалываться от напряжения и непролитых слёз. Нужно было отвлечься. Занять руки чем-то более сложным.
– Мама, – снова подошла я к ней. – Давай я приготовлю ту похлёбку? С картошкой и зеленью, как… как он любил.
Она посмотрела на меня, и в её глазах на мгновение мелькнуло что-то живое – боль, смешанная с сожалением.
– Не надо, детка. Не сегодня. Не могу я есть то, что он любил. Не сегодня.
В её словах не было упрёка, только бесконечная усталость. Я поняла. Память была слишком свежа, слишком остра. Любая попытка сохранить связь через привычные вещи оборачивалась новой болью.
Вместо этого я нарезала хлеб, налила всем по кружке воды. Мы сели за стол – втроём, с огромной, зияющей пустотой на месте четвёртого стула. Ели молча. Хлеб был безвкусным, как опилки. Я смотрела на отца. Он ел быстро, жадно, не поднимая глаз, будто пытался заткнуть едой ту пустоту, что разверзалась внутри. Мать лишь ковыряла ложкой в миске, отодвигая кусочки хлеба.
– Надо занести старухе Марте дров, – вдруг хрипло произнёс отец, ломая молчание. – Йен… он всегда за этим следил.
Он произнёс его имя. Впервые за сегодня. Воздух в комнате будто сгустился. Мать замерла, застыв с ложкой в руке.
– Я схожу, – тут же сказала я, поднимаясь. – Я схожу, папа. Не беспокойся.
Он кивнул, не глядя на меня, и снова уткнулся в свою миску. Его плечи немного расправились. Маленькая задача была найдена. Маленький долг, который нужно исполнить.
Выйдя на улицу, я вдохнула полной грудью. Холодный воздух обжёг лёгкие, но был свежим и чистым. Он не пах горем и остывшей пеплом. Я отмерила поленницу, связала её верёвкой и взвалила на спину. Тяжесть была знакомой и почти утешительной. Она отвлекала, заставляла чувствовать мышцы, а не душу.
По дороге ко мне подошла соседская девочка, Анна. Она смотрела на меня своими огромными, испуганными глазами.
– Селеста, это правда? – прошептала она. – Правда, что Его забрали?
Я остановилась, поправив ношу на спине. Что можно сказать ребёнку? Что да, правда? Что мир – это страшное и несправедливое место?
– Да, Анна, – тихо ответила я. – Его забрали.
– А он… он сильно кричал? Ему было больно?
Её вопросы были прямыми и невинными, как уколы ножа. Я вспомнила его лицо в свете молний – не страх, а ярость и какое-то странное принятие.
– Нет, – соврала я, и голос мой дрогнул. – Не больно. Он был смелым.
Она кивнула, всё ещё испуганная, и убежала. А я постояла ещё немного, чувствуя, как тяжесть поленницы вдавливает меня в землю. Этот простой, детский вопрос всколыхнул то, что я пыталась загнать поглубже. Картины той ночи снова поплыли перед глазами. Холод, грязь, его горящая рука…
Я зажмурилась, тряхнула головой. Нет. Не сейчас. Нужно донести дрова.
Старуха Марта встретила меня на пороге своего покосившегося домика. Её глаза были красными от слёз.
– Деточка моя, – захныкала она, увидя меня. – Как же так? Как такое могло случиться? Такой парень, сильный…
Она говорила, говорила без умолку, изливая своё горе, и мне пришлось её выслушивать. Она вспоминала, как он чинил ей забор, как носил воду из колодца. Для неё он был не «двенадцатой жертвой», а просто хорошим парнем. И в этом была своя горькая правда.
Вернувшись домой, я застала мать за шитьём. Она пыталась залатать свою старую юбку, но пальцы не слушались её, игла раз за разом соскальзывала с ткани. Я молча подсела к ней, взяла работу из её рук. Наши пальцы ненадолго встретились. Её – ледяные, мои – тоже холодные. Мы не сказали ни слова. Я стала аккуратно накладывать заплатку, а она смотрела на мои руки, и по её щеке медленно скатилась одна-единственная слеза. Она упала на ткань и тут же впиталась, оставив после себя лишь тёмное пятнышко.
Так и прошёл день. В молчаливых, механических действиях. В попытках не думать, не чувствовать. Но мои мысли возвращались к одному и тому же. К его словам. К его лихорадочному бреду. «Они приходят за теми, кто горит изнутри».
Что он имел в виду? Эта ярость, что всегда кипела в нём? Или что-то другое? Та болезнь, что сожгла его за последние дни? Я вспоминала его горящий взгляд, его дрожащие руки. Это не была просто злость на мир. Это было что-то физическое, что-то настоящее.
Вечером мы снова сели ужинать. Было чуть легче. Мы ели ту же самую похлёбку, что и в обед, но сегодня мать сделала несколько глотков. Отец разлил по кружкам слабый травяной чай. Он отпил глоток, поморщился и поставил кружку на стол с таким грохотом, что мы обе вздрогнули.
– Не могу, – прохрипел он. – Сижу тут, как пень, а в голове… в голове одна и та же картина. Как он… как они его…
Он не договорил, с силой сжав кулаки. Суставы побелели. Мать потянулась через стол, положила свою руку на его сжатую ладонь.
– Молчи, Эрик. Не терзай себя. Не надо.
– А как не терзать? – он поднял на неё глаза, и в них впервые за весь день я увидела не пустоту, а боль. – Я его отец. Я должен был… я должен был что-то сделать! Должен был как-то помочь ему! А я просто спал! Как последний трус!
– Ты не трус, – тихо, но твёрдо сказала я. – Ты жив. И мы живы. И он… он бы не хотел, чтобы ты так себя терзал. Он бы сказал… он бы сказал: «Двигайся дальше, старик».
Я произнесла это, подражая его грубоватой, немного насмешливой манере говорить. Наступила тишина. Потом уголок рта отца дёрнулся в чём-то, отдалённо напоминающем улыбку.
– Да, – хрипло выдохнул он. – Так бы и сказал. Наглец.
Он разжал кулак, перевернул ладонь и взял руку матери в свою. Это был первый признак жизни, первая трещина в ледяной стене горя.
Позже, когда они ушли спать, я осталась сидеть у очага. Огонь уже догорал, отбрасывая на стены длинные, пляшущие тени. Я взяла ту самую книгу, свою единственную отдушину, но читать не могла. Буквы расплывались, не складываясь в слова. Вместо рыцарей и принцесс я видела его лицо.
Я думала о Лоране. О его словах про «аномалию». Он ждал. Ждал, когда я приду. Мысль об архиве, о пыльных книгах, в которых, возможно, скрывалась разгадка, манила и пугала одновременно. Это был шаг. Шаг вперёд. Шаг, который нужно было сделать. Но не сегодня.
Сегодня нужно было просто выжить. Пережить этот первый, самый длинный день без него. Прочувствовать каждую секунду этой пустоты, чтобы завтра иметь силы наполнить её чем-то иным.
Я погасила последнюю свечу и легла в постель. В темноте тишина стала абсолютной. Я прислушалась. Ни храпа, ни тяжёлого дыхания за стеной. Только скрип старого дома да бешеный стук собственного сердца. Я накрылась одеялом с головой, пытаясь согреться, но холод шёл изнутри.