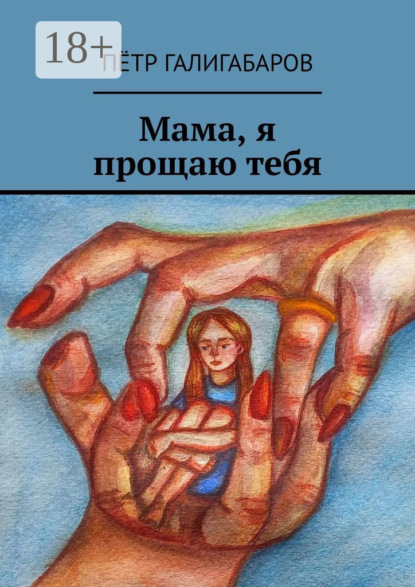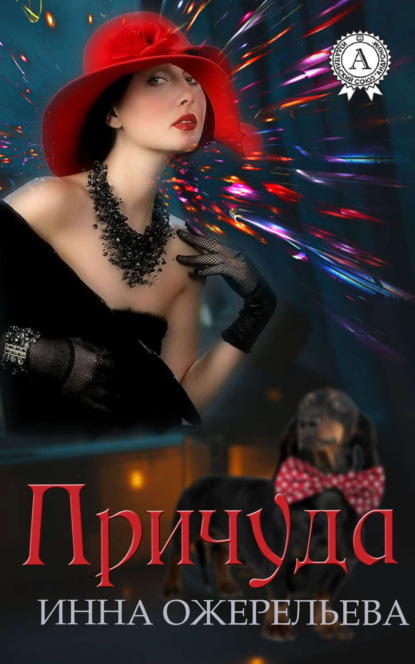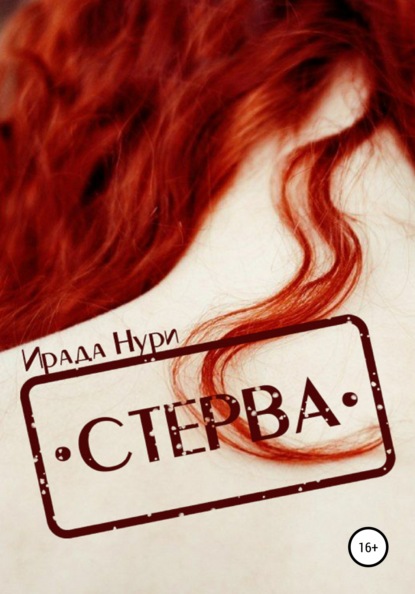Сила в твоих руках. Манифест личной ответственности в эпоху перемен
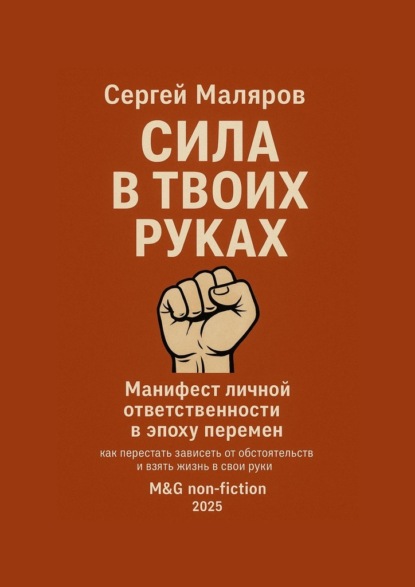
- -
- 100%
- +

Редактор С. П. Маляров
Дизайнер обложки Ю. В. Гринько
© Сергей Маляров, 2025
© Ю. В. Гринько, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0067-0923-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть I. Проблема безответственности и рождение идеи
Глава 1. Иллюзия внешнего контроля
Наш мир – территория эффективности, а не витрина для тщеславия. Я давно замечаю, что когда люди по-настоящему ценят результат, они перестают играть в ритуалы и оправдания. Это самые эффективные люди. Вместо громких тезисов вроде «я делаю всё по правилам, но ничего не выходит» они предпочитают привести проект к финишу, пусть даже нестандартными способами. И наоборот, когда я встречаю истории про плохие времена или недостаточно хорошие условия, «не ту страну», «не ту экономику» или «не те связи», за этим почти всегда стоит нежелание брать на себя реальное действие.
Я всегда с интересом отмечал для себя примеры того, как люди оправдывают собственное бездействие. Они, разумеется, ссылаются не на себя, а на внешние силы. Думаю не одному мне часто приходилось слышать: «У меня не получается создать бизнес, потому что кругом монополисты», «У нас исторически сложилось, что всюду бюрократия», «Если бы я родился в другой стране, давно стал бы миллиардером». Со временем я заметил закономерность: те, кто склонны цитировать «общие» проблемы (систему, политику, глобальные кризисы), обычно не спешат искать практические решения. Они останавливаются на плаче: «Меня загнали в безысходность».
В глубине души я понимаю, что обвинять «большую систему» удобно и даже приятно. Это снимает вину за собственный паралич. Хочется, чтобы обстоятельства сами подстроились под наши грёзы, а не пришлось менять своё поведение. Для себя я называю это явление иллюзией внешнего контроля. Соблазн её огромен: достаточно сказать «Я ведь ничего не решаю» – и можно не мучиться совестью за очередное упущенное время или бездействие. Социолог Эдвард Банфилд в одном из исследований середины XX века отмечал, что ожидание «внешнего спасителя» характерно для сообществ, где низка предпринимательская активность1. Они годами живут надеждой, что кто-то улучшит их жизнь – государство, крупный инвестор, некая абстрактная «сверхсила». Но чудо не случается.
Я считаю, что правильная работа – это та, что сделана, а не та, которая теоретически соответствует «идеальным условиям». Наблюдал один показательный пример в сфере стартапов: видел основателя, который разработал крутой сервис для онлайн-курсов, но месяцами ждал, что некий государственный фонд (в частности имелся в виду ФСИ) выделит ему грант. Говорил: «Без гранта я не смогу масштабироваться, рынок занят, конкуренция жёсткая». В итоге он проиграл менее талантливой, но шустрой команде, которая просто взяла и запустила базовую версию сервиса на скромные личные сбережения. Пока первый предприниматель год жаловался на финансирование, второй обзвонил десятки школ, наладил партнёрство и вынес конкурента с рынка. Мне кажется, что у проигравшего основателя были чуть ли не лучшие технические предпосылки, но он сосредоточился на том, что «всё решают внешние структуры». В результате он заморозил продукт и остался с чувством обиды на «систему».
Люблю следующую аналогию с боевыми искусствами. Бокс великолепен как спортивная дисциплина: там есть судьи, раунды, запреты на удары ниже пояса. Но в уличном контексте, в ситуации реальных боевых действий, в случае захвата террористами заложников, да и просто при встрече с гопниками на улице бокс проигрывает израильскому боевому искусству крав-мага. Удивительное здесь то, что в крав-мага нет правил, как таковых. Это система действий, направленная на максимально быструю и эффективную нейтрализацию угрозы. Но разве не для этого, в конечном счете, и нужно владеть боевым искусством? Когда нет правил, побеждает тот, кто использует то, что подходит для реальной схватки. И жизнь, по моим ощущениям, больше похожа на уличную драку, чем на образцовый ринг. В делах редко бывает беспристрастный судья, который остановит нарушение или объявит «фол». Практически всё решает результат: создали я продукт или нет, смог привлечь аудиторию или растерял её, решился ли действовать немедленно или застрял в оправданиях. Для меня это – иллюстрация того, что эффективность важнее формальной правильности. Многим кажется, что это слишком жестоко, но я вижу, что именно так устроен мир. Особенно мир конкурентной борьбы.
Несколько лет назад наткнулся на исследование Kauffman Foundation, которое показало, что львиная доля успешных стартапов в США возникали в периоды, когда экономическая ситуация была нестабильной, а не идеальной. Оказалось, многие проекты рождались именно оттого, что их создатели не ждали, пока кто-то устранит «плохой рынок». Они умели извлечь выгоду из возможностей, которые другим казались бесперспективными. Ну и многие из нас помнят, как возросла предпринимательская активность в России в 90-х. Откровенно говоря, это были не лучшие годы для бизнеса, но мы все знаем, что происходило. На мой взгляд, это лучшая демонстрация факта: рост приходит не из рафинированных условий, а из решительных действий, часто вопреки совокупности общественных жалоб.
Но я часто встречаю людей, убеждённых, что их судьба прописана какими-то глобальными кукловодами или невидимыми силами. Это можно понять: мы живём в сложном обществе, и трудно отрицать влияние политики, крупных корпораций, макроэкономики. Я отдаю себе полный отчет в том, что не всё в жизни возможно (а некоторое даже не нужно) взять под личный контроль. Но опыт говорит: пока человек тратит энергию на объяснение, почему «у нас всё решает кто-то другой», он не ищет окно возможностей. А возможности есть всегда, только они не кричат о себе с афиш.
Часто мне возражают: «Слишком уж ты большой оптимист. Попробуй открыть бизнес при нашем-то уровне коррупции». Но я вижу и другие примеры: есть те, кто не кричит о коррупции, о конкуренции, о том что все уже схвачено и распределено между правильными людьми, а упорно ищут пути, заводят знакомства, договариваются, осваивают новые продукты. Замечаю, что они добиваются большего и меньше жалуются, пусть и вынуждены преодолевать чудовищные преграды. Кто-то скажет, что это лишь «счастливчики» с особыми связями. Отчасти согласен – связи играют безусловно важную роль, может, даже самую главную роль в успехе человека. Но у меня сложилось впечатление, что связи часто возникают у тех, кто не упирается в обиду на мир, а предпочитает постоянно быть в движении и ищет новых людей с открытым сердцем.
Однажды я беседовал с приятелем, который потерял дело после одного из кризисов, кажется это был 2014 год. Тогда был мощный скачок стоимости доллара и евро, а он занимался ввозом расходных материалов для стоматологии. Он клял «злую экономику» и говорил, что всюду несправедливость. И действительно, у него не получилось выйти из кризиса, потому что внешние причины были сильнее его. Но еще я наблюдал за другим парнем, который в другой уже кризис переключился с офлайн-торговли на онлайн, а затем на небольшое производство защитных масок (они тогда резко понадобились) и за пару месяцев развернул мини-цех. А потом там же стал делать санитайзеры для рук. Он не кричала о безысходности, когда все кричали, а поймал свою волну и она его вынесла на нужный берег. Я бы не сказал, что это чистая удача – он просто заметил, что люди будут готовы покупать что-то новое и быстро отозвался на спрос. Да, его доходы могли быть выше в более «дружественной» обстановке, но он не ждал идеала. Он взял то, что есть, и превратил это в дело.
Мне кажется, что люди, которые твердят о том, что все решают внешние силы, на самом деле либо просто не хотят нырять в суровую реальность, где придётся получить удары. Либо действительно обманывают себя, живут в выдуманной картине мира, их мир вот таков и довольно сложно изменить мировоззрение. Легче сидеть на берегу и ругать волны, чем научиться плавать в бурном потоке. Я не исключаю, что обстоятельства действительно бывают страшно неблагоприятными. Но я также вижу, как даже в тяжёлых условиях каждый год кто-то находит лазейки и пробивает путь вверх. Сколько бы ни говорили про «каменную стену», кто-то упрямо долбит её и в конце концов выбивает узкий проход. Говорят, что величина личности человека прямо пропорциональна величине проблем, с которыми он может справиться.
Тут, конечно, возникает вопрос: а действительно ли нужно ломиться в замурованную стену? Нельзя ли найти другой маршрут или построить свою «стену»? И вот здесь я хочу начать рассказ о принципе личной ответственности, который я для себя открыл. Смысл в том, что принцип ответственности побуждает искать любую дорогу. Он не обещает, что будет легко, но говорит: «Либо действуй, либо признай, что ты добровольно уступил». Это и есть ключ к эффективности: делать ставку на результат вместо теоретических «если бы, да кабы».
Я не думаю, что стоит отрицать значимость внешних условий. Я точно не идеалист, считающий, что человек в одиночку может побороть все социальные изъяны. Но по моим наблюдениям, позиция «за меня все решают другие» ведёт к параличу, а позиция «давайте попробуем действовать» даёт шансы. Любые шансы в делах, отношения, карьере, творчестве.
Я в определенный период жизни много размышлял: почему же я сам так охотно ищу виноватых снаружи? Думаю, тут есть и природа страхов (страх провала, страх выглядеть нелепо), и скрытое желание, чтобы всё решилось само собой, и даже некое социальное одобрение жалобщиков: «Нас так много, все вместе ругаем чиновников, олигархов, глобальный заговор». Ощущение будто приятнее тлеть в компании, чем гореть в одиночку. Но ничто не даёт реальных плодов, кроме поступков. Это мне кажется железным законом. Вполне возможно, что ошибки будут, но они куда честнее, чем «страх перед действием», обёрнутый в нечто вроде «всё равно экономике конец, а я маленький человек».
Поэтому и повторяю для себя и для всех людей, с которыми мне доводится делать общее дело: «правильная работа – это та, что сделана. Не та, что делается».
Возвращаясь к теме крав-мага: это реальный пример, что в схватке побеждает не тот, кто «идеально поставил руки по учебнику бокса», а тот, кто знает слабые места противника и быстро бьёт туда, где это наиболее эффективно. Когда речь идёт об уличном столкновении, не важно, насколько «красив» удар, главное – его результат. Точно так же в экономике или карьере: если успех требует резкого хода, вы оказались правы, если этот ход выстрелил. Я не пытаюсь сказать, что все правила надо ломать, будто это хулиганская игра. Но порой люди настолько прилипают к регламентам и чужим разрешениям, что забывают, зачем вообще затеяли дело. А потом, конечно же, сетуют: «Меня обошли, потому что я всё делал по правилам, а другой был наглее, искал обходные пути». Возможно, он был не наглее, а просто умнее и эффективнее. Такую правду о соперниках всегда сложно признавать. Практически невозможно.
По моим ощущениям, главная цена иллюзии внешнего контроля – это ощущение бессилия и потеря мотивации. Когда человек убеждает себя, что рычаги не у него в руках, он и не пытается. Постепенно угасает любопытство, жажда эксперимента. Ему проще продолжать вяло перечислять недостатки окружения и тем самым объяснять свою пассивность. Но я видел, как те, кто не боятся ломать свой уклад, вдруг выходят на передний край, причём не в моменты процветания, а в моменты, когда все твердят: «Сейчас упадёт рынок». Они учатся новому, меняют модель, пробуют гибридные форматы. Именно так я для себя объясняю феномен непотопляемых предпринимателей: они считают, что всё зависит от их манёвров и умений. Может, это не всегда на 100% верно, но такая установка даёт им шанс на успех, тогда как установка «от меня мало что зависит» с высокой вероятностью ведёт к нулю.
Мне кажется, что мир действительно вознаграждает результат, а не жалобы. Жизнь не сильно интересуется тем, как изысканно мы умеем обличать «плохие условия». В конце концов всё сводится к вопросу: «А что сделано?» Мир эффективности мало заботится о чистом соблюдении формы, его волнует итог. Если вы вышли из схватки победителем, никто не будет проверять, выполнили ли вы правила бокса, – вы уже доказали свою состоятельность. Может быть, это звучит прагматично, но в моей практике это куда более честно, чем стоять на обочине в ожидании, что кто-то улучшит систему.
Я не хочу сказать, что все, кто ссылаются на внешние факторы, заведомо ленивы или безнадёжны. Возможно, у некоторых проблемы действительно колоссальные, а путь реально тяжёл. Но личный опыт и просмотр множества кейсов показывают мне, что практическая инициатива чаще приводит к переменам, чем самая логически выверенная и даже изысканная в своей непогрешимости культура оправданий. Человек, который не перестаёт искать, пробовать, видит окно там, где остальные видят замурованную дверь.
Уверен, что навязчивая вера во внешние обстоятельства – одно из когнитивных искажений, иллюзий нашего сложного сознания. Она безусловно для чего-то важного нам нужна, но когда дело касается необходимости важных перемен, она парализует, делает нас пассивными. А ведь на деле есть много инструментов и стратегий, позволяющих действовать, пусть и не всегда с победным процентом. Но даже 10—20% успеха в подобных проектах – это прорыв для человека, который мог вообще не предпринять ни шага.
В следующих главах я хочу раскрыть, почему идея личной ответственности не сводится к самообвинению, самобичеванию и поиску проблем в себе, а ткаже попробую порассуждать, найти ее истоки и проследить развитие – от философских корней до современных психологических концепций. Для меня принцип личной ответственности – способ подключить собственную энергию к решению проблем, а не средство самообвинения. Важно различать эти вещи. Но прежде чем продолжать, мне кажется критически важным зафиксировать мысль: никакая система не отменяет нашу возможность действовать. Я убедился в этом, наблюдая, как одни и те же суровые условия кого-то ломают, а другого закаляют и выталкивают на новую орбиту.
Итог для меня прост: если хочу достичь результата, я перестаю думать, что кто-то должен мне дать зелёный свет. Да, бывает, что какие-то факторы объективно вредят. Но на практике это лишь параметры среды, вроде погоды за окном. И если человеку нужно срочно выжить, он не сидит и не ждёт, пока уляжется буря; он ищет укрытие, строит лодку или зарывается в землю – короче, делает то, что повышает его шансы. Аналогично в делах и жизни: реальный мир вознаграждает тех, кто выходит из самооправданий и стремится к новому решению. Именно поэтому я считаю, что жить в иллюзии внешнего контроля дорого обходится: человек тратит время на сожаления и никогда не встрепенётся, чтобы двигаться вперёд.
Глава 2. Вечная битва жертвы и автора
Вторая глава посвящена двум внутренним ролям, которые постоянно сталкиваются в человеческом сознании: жертва обстоятельств и автор своей судьбы. Я наблюдаю в первую очередь за самим собой, что то и дело перехожу от одной модели поведения к другой, иногда не замечая этого сам. Жертва склонна искать виноватых, испытывать обиду и рассчитывать, что кто-то или что-то снаружи сделает всё за неё. Автор, напротив, ставит цель, ищет пути и принимает последствия своих действий как неизбежную плату за свободу выбора.
Роль жертвы нередко выполняет функцию психологической защиты. Когда человек несколько раз сталкивается с провалами, он начинает верить, что в мире действует непреодолимая сила, которую ему никак не обойти. Это позволяет не ощущать свою ответственность и оправдывать бездействие. В разговоре с такими людьми можно услышать: «ничего не изменить», «я много раз пытался, это невозможно», «даже если и получится, отберут», «у нас не та экономика в стране», «нужны связи, иначе ничего не получится» или «слишком поздно начинать с нуля». За всем этим скрывается страх сделать шаг навстречу риску, а значит, столкнуться с возможной неудачей и личными ошибками.
Знакомый предприниматель много лет говорил, что рынок перенасыщен, инвесторы ориентированы только на технологические гиганты, а у него нет ни нужных связей, ни достаточных средств. Казалось бы, всё логично: законы не идеальны, налоговая нагрузка высока, связи и правда часто решают многое. Но потом оказалось, что за годы разговора о плохой конъюнктуре он так и не доработал идею своего продукта и не потрудился найти выход на хотя бы небольшую часть аудитории. Ему было проще считать себя пленником системы, чем признавать, что можно двигаться вперёд даже при неблагоприятных условиях, если разделить проект на маленькие шаги. Роль жертвы создаёт видимость безопасности: к человеку не предъявляют высоких требований, потому что он и сам не видит смысла куда-то бежать.
Иногда такую позицию называют спасательным кругом для психики, ведь она даёт повод не испытывать чувство вины. Если всё действительно заранее определено внешними факторами, то мы ни в чём не повинны. Но такая защита становится ловушкой: чем чаще человек ссылается на враждебный мир, тем реже он пытается разобраться, что именно зависит от него. В итоге перспективы исчезают раньше, чем он успевает предпринять какую-либо попытку.
Противоположная роль – автор своей судьбы – звучит более вдохновляюще, но она не лишена трудностей. Автор не обманывает себя, будто внешних ограничений не существует. Он признаёт проблемы, но подходит к ним со стороны своих возможностей и сильных сторон. У меня есть знакомый китаист, который без связей и госфинансирования решил открыть консалтинговую фирму. Он не стал жаловаться, что рынок давно поделен или что в нашей стране нет условий для развития бизнеса. Он нашёл несколько компаний, заинтересованных в поставках в Китай, и использовал знания языка и культуры, чтобы стать для них проводником. Никто не гарантировал ему успех, и вначале были только собственные сбережения, но всё получилось. Сейчас у него стабильные клиенты и новая команда. Такого результата не было бы, если бы он занял позицию «ничего не выйдет без господдержки».
Разница между автором и жертвой не сводится к оптимизму. Автор иногда оценивает шансы скептически, понимает риски, готовится к провалам. Но он знает, что результат никогда не достаётся пассивным наблюдателям. Жертва, напротив, боится даже небольших провалов, поэтому заранее говорит, что условия не подходят для действия. Мне даже кажется, что люди, которые не боятся взять на себя риск, быстрее обучаются: каждая ошибка даёт им опыт и идеи, как улучшить процесс. Те же, кто предпочитает прикрываться враждебной внешней средой, не двигаются вперёд, потому что избегают любых попыток.
История сохранила примеры, как люди вставали в авторскую позицию, вопреки крайнему давлению. К примеру, Томас Эдисон после пожара в собственной лаборатории не стал причитать о злой судьбе, а просто собрал волю в кулак и приступил к восстановлению. Нельсон Мандела, проведя многие годы в заключении, не утратил веру, что, выйдя на свободу, сможет повлиять на будущее своей страны. Если бы они выбрали роль жертвы, никто бы их не осудил за это, ведь обстоятельства были действительно ужасными. Но они понимали, что внешние условия не могут полностью лишить человека способности действовать. Возможно, именно это убеждение не давало им сдаться.
Если посмотреть глубже, переход от состояния жертвы к состоянию автора требует пересмотра многих базовых убеждений. Человек перестаёт считать, что ему «кто-то что-то должен», и берёт на себя ответственность за каждое решение. Он перестаёт искать безошибочный путь и соглашается на жизненные неопределённости, зная, что ошибки – часть развития. Таких личностей нередко называют рисковыми, но часто они двигают свои сферы вперёд там, где остальные только разводят руками.
Однако не все готовы платить за свободу. Авторская позиция означает, что нет больше возможности обвинять экономику, государство, родителей или коллег, если что-то пошло не так. Я не раз видел, как люди отказывались от обещанных проектов, когда осознавали весь груз личной ответственности за провал. Роль жертвы в этом смысле проще: всё уже решено, мы просто плывём по течению, а значит, за ошибки отвечает только сама река.
Но именно здесь и кроется главная опасность. Жизнь жертвы можно провести в чувстве беспомощности и затяжных жалобах. А жизнь автора, даже если он многократно оступается, всегда будет насыщена возможностями, поиском решений, чем-то новым. У меня никогда не складывалось впечатление, что авторы довольствуются поверхностными аргументами, почему у них не получилось. Они изучают, что не сработало, и двигаются дальше. Это даёт им шанс выйти за пределы старых представлений о себе и своей среде.
Иногда в обществе могут поощрять позицию жертвы, как если бы это говорило о смирении или умении трезво смотреть на сложившиеся обстоятельства. Но если человек привычно уходит в обвинения внешнего мира, он перестаёт замечать возможности для манёвра. Именно поэтому считаю, что смена этой стратегии требует не просто психологического вдохновения, а серьёзного пересмотра всей картины мира.
В конечном итоге жертва и автор продолжают существовать в нашем сознании одновременно. В каждом новом проекте, в каждом новом кризисе мы можем выпустить вперёд своего автора или дать слово жертве. Может быть, никто не избавляется от жертвенности навсегда, но те, кто научились распознавать эти внутренние голоса, лучше контролируют ситуацию. Они замечают, когда страхи пытаются блокировать решение, и напоминают себе, что всегда можно сделать хотя бы небольшой шаг вперёд.
Именно так, на мой взгляд, формируется принцип личной ответственности: мы перестаём винить всех вокруг и понимаем, что наши достижения напрямую связаны с личными усилиями, пусть и несовершенными. Этот принцип не обещает идеальных результатов, но укрепляет волю, развивает умение искать пути в непростых условиях и помогает относиться к ошибкам как к нормальному этапу развития.
Надеюсь, что, читая эти страницы, кто-то из читателей поймёт, в какие моменты он сам склоняется к роли жертвы, а в какие – к роли автора. Это действительно вечная битва: первый голос зовёт к спокойствию и отчуждённости, второй подталкивает к движению, иногда болезненному, но почти всегда дающему шанс на новое. И как бы высоки ни были барьеры, человек, делающий выбор в пользу авторства, со временем обнаруживает, что обретает не только свежие идеи, но и способность влиять на свою судьбу гораздо сильнее, чем ему представлялось раньше.
Глава 3. Цена обвинений и упущенных шансов
Многие люди тратят колоссальное количество времени и сил на выяснение того, кто виноват в неудачах. В разговоре с ними нередко звучат упрёки в адрес начальства, семьи, правительства, экономических условий или «особых» исторических обстоятельств. Эти упрёки дают ложное чувство облегчения: если безвыходное положение вызвано факторами извне, значит, никакой личной вины нет. Однако практика показывает, что такая позиция стоит слишком дорого. Когда всё сводится к жалобам и обвинениям, свободная энергия, которая могла бы пойти на поиск реальных решений, улетучивается почти бесследно.
В деловой среде подобная тяга к поиску виноватых чаще всего оборачивается провалом. Существует известный случай одной компании, занимавшейся выпуском бытовых устройств. Её топ-менеджмент годами объяснял неудачные продажи тем, что рынок «захвачен» конкурентами, а у потребителя сформировались неправильные вкусы. Вместо анализа реальных запросов и адаптации производства к новым тенденциям, команда погрузилась в споры о том, как несправедливо устроен рынок. Проекты по модернизации откладывались, продукция продолжала морально устаревать, а недовольство только нарастало. Финансовые потери увеличивались, и в итоге предприятие было продано за бесценок конкурентам, которые изначально были готовы к переменам и не тратили время на жалобы. Практика внедрения инноваций потребовала гораздо меньше сил, чем затянувшаяся борьба с «внешним врагом».
Внутри семьи ситуация может разворачиваться по аналогичному сценарию. Порой супруги при возникновении любого конфликта без раздумий обвиняют друг друга или родителей второй половины, которые «вмешались». Накопленные обиды занимают всё внимание, уже не остаётся ресурса для спокойного обсуждения проблем. Каждая ссора превращается в поиск поводов сказать: «Это ты виноват, потому что…» или «Если бы не твои родственники, всё было бы иначе». В результате реальные пути к примирению не обсуждаются, отношения скатываются к постоянному напряжению. Обвинения создают иллюзию защиты своей правоты, но при этом отнимают способность слышать, договариваться и исправлять ситуацию. С годами атмосфера в такой семье бывает настолько отравлена взаимными претензиями, что уже трудно вернуться к конструктивным разговорам.