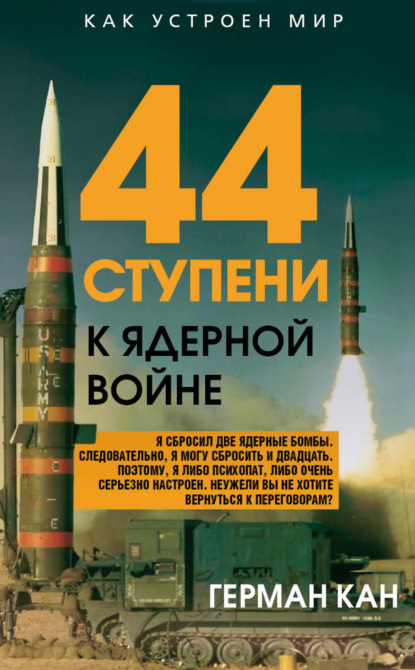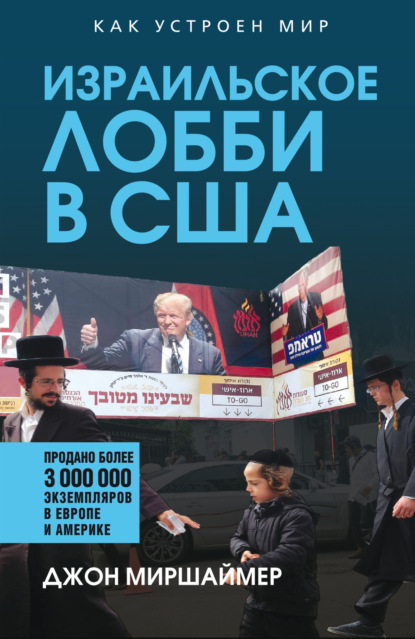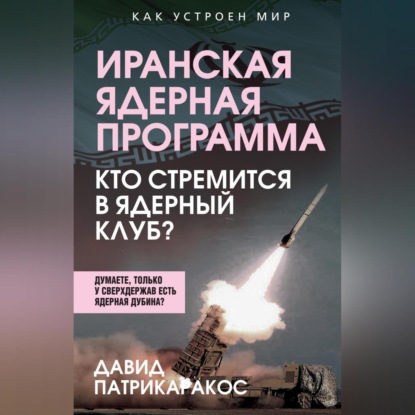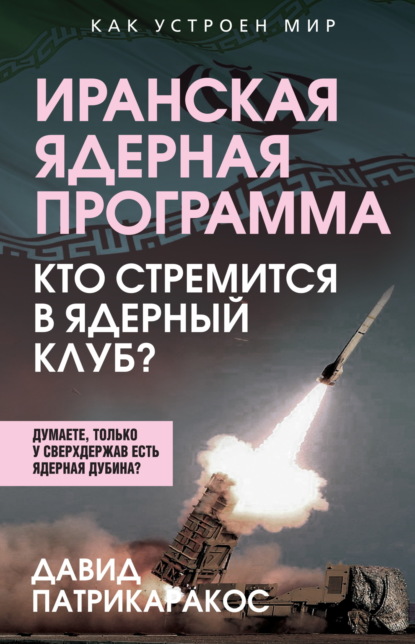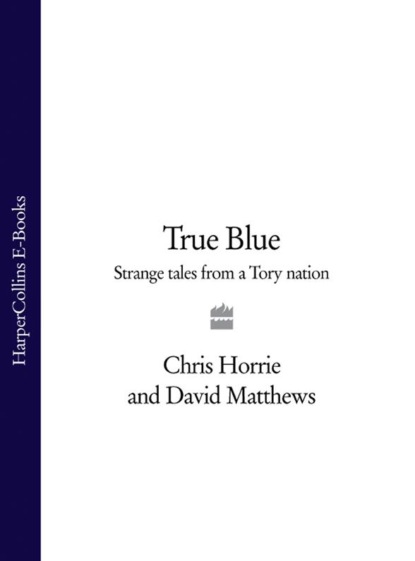Прокси-войны. Армия невидимок всегда победит
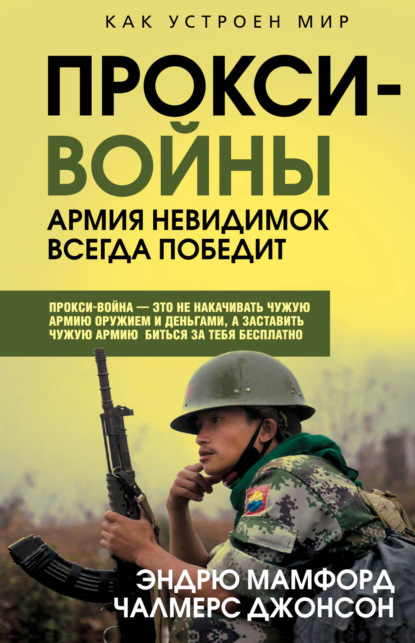
- -
- 100%
- +
Президент Франклин Д. Рузвельт придерживался аналогичной позиции опосредованного взаимодействия во время Второй мировой войны вплоть до 1941 года.
Действительно, принятие стратегий ведения войны опосредованными силами настолько укоренилось в политике середины двадцатого века, что прямое вмешательство сверхдержавы (такое как вторжение Советского Союза в Афганистан), возможно, стало скорее исключением, чем правилом конфликтов периода холодной войны.
Вмешательство через посредников на расстоянии стало нормой. Утверждения, подобные утверждению Гарольда Тиллемы о том, что в конце эпохи холодной войны «открытое военное вмешательство иностранных государств направляло современные международные вооруженные конфликты», закрывают глаза на распространенность иностранного скрытого и непрямого военного вмешательства и повсеместность опосредованных войн на протяжении всего этого столетия.
Определение параметров опосредованных войнНесмотря на то что в прошлом предпринимались попытки объяснить, что влечет за собой опосредованные войны, определенные области разногласий все еще остаются. В 1964 году Карл Дойч назвал опосредованные войны «международным конфликтом между двумя иностранными державами, ведущимся на территории третьей страны; замаскированным под конфликт из-за внутренней проблемы этой страны; и использующим часть рабочей силы, ресурсов и территории этой страны в качестве средства для достижения преимущественно иностранных целей и иностранных стратегий».
Возможно, однако, что определение Дойча слишком ориентировано на государство, поскольку оно игнорирует роль, которую негосударственные субъекты могут играть в опосредованных войнах (как обсуждается здесь, в главе 3), и излишне интернационализирует опосредованные войны (что, возможно, неизбежно в контексте холодной войны, в которой было придумано это определение), упуская из виду зачастую региональную борьбу за власть, которую они представляют.
Поэтому, возможно, для того чтобы лучше понять, что такое прокси-войны, было бы полезно сначала остановиться на том, чем они не являются. Опосредованные войны – это не просто региональные войны, которые, по-видимому, отражают более широкую идеологическую борьбу, осуществляемую сверхдержавами. Они также не являются учениями по прямому военному вмешательству третьих сторон или обязательно формой «тайных действий», которые будут более подробно рассмотрены позже в этой главе. Опосредованные войны не обязательно классифицировать исключительно как происходящие, например когда средние региональные державы сталкивались во время холодной войны, поскольку такое допущение игнорирует другие формы конфликтов, в которых происходят опосредованные вмешательства, а именно гражданские войны.
Необходимы дальнейшие усилия по разъяснению, поскольку в этой книге термины «война чужими руками» и «интервенция чужими руками» будут использоваться взаимозаменяемо. Это основано на понимании того, что государства в первую очередь косвенно вмешиваются в чужие войны, используя доверенных лиц, которые уже участвуют в войне. Условия войны уже существуют и часто усугубляются вмешательством. Более того, эти косвенные вмешательства используются для усиления по своей сути схожих с войной стратегий максимизации интересов или идеологии, хотя и таких, которые сводят к минимуму риски, связанные с прямой войной или интервенцией. Таким образом, в этой книге мы будем ссылаться на опосредованные войны и интервенции через посредников, чтобы объяснить тот же феномен косвенного вмешательства в существующий конфликт со стороны государства – третьей стороны.
Ричард Нед Лебоу в своей книге «Почему нации воюют» охарактеризовал конфронтацию времен холодной войны между двумя главными сверхдержавами и союзниками их противников (понимаемую в этой книге как опосредованную войну, если союзник получает косвенные формы помощи от другой сверхдержавы) как «промежуточное состояние», ни войну, ни мир, и поэтому не включенное в его анализ причинно-следственных связей войн за последние три столетия с использованием большого набора данных. Это симптоматично для того, как понимание динамики и важности опосредованных войн провалилось сквозь трещины в исследованиях безопасности и привело к неполному изучению всего спектра типологий войн в современном мире. Это существенное упущение, особенно если учесть расчеты К. Дж. Холсти о том, что 30 процентов всех войн в период с 1945 по 1995 год были свидетелями той или иной формы внешнего вмешательства, – хотя мы можем предположить, что эта цифра на самом деле намного выше, учитывая, что Холсти не включил в свой набор данных войны за деколонизацию, которые происходили в странах третьего мира в середине двадцатого века, многие из которых содержали очевидное косвенное вмешательство со стороны благодетелей сверхдержав. Действительно, именно модели опосредованного вмешательства в такие антиколониальные войны свидетельствовали о возросшем распространении опосредованных войн, поскольку сверхдержавы искали способы изменить региональную политику в свою идеологическую пользу. Как отмечал Хедли Булл в начале 1980-х годов: «В последние десятилетия способы вмешательства изменились. Теперь незаконное вмешательство, как правило, уступает место ненасильственному, прямое – косвенному, открытое – тайному».
До настоящего времени одна из наиболее существенных попыток признать войну опосредованными силами как самостоятельный вид конфликта, заслуживающий изучения, была предпринята в статье, написанной в середине 1980-х годов израильским ученым Яаковом Бар-Симан-Товом. В этой статье он ставит девять ключевых вопросов, чтобы охарактеризовать «войну опосредованными силами как отдельный вид войны».
Стоит рассмотреть каждый из этих вопросов по очереди и предложить некоторые ответы, чтобы прояснить наше понимание того, что представляет собой война чужими руками:
Можно ли классифицировать как опосредованную войну ту, в которую внешняя сила вмешивается напрямую?
Нет. Непрямое вмешательство является фундаментальным элементом войны чужими руками (полное обсуждение этого вопроса смотрите в следующем разделе).
Важно ли, чтобы оба небольших государства в локальной войне служили посредниками внешней державы?
Нет. Предположение о том, что опосредованные войны развиваются на основе межгосударственных конфликтов, вводит в заблуждение; однако это не указывает на симметричность таких войн в плане предоставления опосредованных средств.
Более того, такие войны не ограничиваются «малыми государствами», действуя как посредник (как указано в последнем вопросе), поскольку это предполагает, что прокси-войны возникают только из ранее существовавших межгосударственных войн между такими государствами. Они могут подпитываться и другими формами войны, в которых участвуют крупные государства или негосударственные субъекты.
Можем ли мы рассматривать войну по доверенности одной стороны, а не другой?
Да. Возьмем, к примеру, советскую оккупацию Афганистана в период с 1979 по 1989 год. Для Советов эта война представляла собой прямую интервенцию, включавшую открытое развертывание большого количества их собственных войск с целью поддержки режима союзников. Однако для американцев это представилось возможностью вступить в войну чужими руками, финансируя и вооружая моджахедов, которые хотели дать отпор Советам. Таким образом, одна и та же война представляла две различные формы вмешательства, прямую и опосредованную, для двух основных сверхдержав (смотрите следующий раздел о динамике опосредованных войн для дальнейшего обсуждения этого вопроса).
Позволяет ли рассмотрение войны одной внешней стороной как войны по доверенности определить войну как таковую или нам нужно больше внешних сторон, чтобы определить ее как войну по доверенности?
Нет. Отнесение конфликта к категории опосредованных войн не обязательно должно подтверждаться самими государствами. Действительно, внешние стороны с большей вероятностью будут называть это «иностранной внутренней помощью», «возможностями долгосрочного прогнозирования» или каким-либо другим подобным семантическим приемом.
Позволяет ли рассмотрение войны внешними сторонами как войны по доверенности определить войну как таковую или нам нужно, чтобы одно или оба малых государства рассматривали ее как войну по доверенности?
Нет. Опять же, не столько вовлеченные стороны, скорее всего, классифицируют себя как вовлеченные в войну чужими руками, сколько более широкое, не вовлеченное международное сообщество. Но более важным моментом остается не то, кто кого просил вмешаться (например, запрос государства-клиента или предложение государства-благодетеля), а то, как само наличие оружия или денег, предоставленных извне, влияет на динамику этой войны.
Как провести различие между отношениями по доверенности и отношениями альянса?
Иногда с трудом. Часто к просьбе или предложению вмешательства по доверенности приводят уже существующие союзы между государствами. Однако для нас по-прежнему важно различать значение союзника как связанного договором друга, готового разделить кровавую цену войны для достижения общего стратегического видения, и государства-благодетеля, использующего стратегию опосредованной войны именно потому, что они не желают разделять это бремя. Таким образом, отношения по доверенности гораздо более непостоянны, темпераментны и оппортунистичны, чем отношения альянса, которые часто строятся на более общих основах общей идентичности или восприятия угрозы.
Когда большое государство помогает маленькому государству, а когда использует последнее?
Это сводится к субъективной интерпретации мотивов вмешательства (подробнее см. в главе 2).
Нам следует обсудить эти мотивы. Во время таких вмешательств нам всегда нужно помнить о том, что Бертил Дюнер назвал «совместимостью интересов». Это основа отношений «благодетель – доверенное лицо», поскольку они раскрывают предполагаемую взаимную выгоду, которую приносит интервенция, если достигается стратегическая цель, мотивирующая войну опосредованно.
Это, однако, должно быть сформулировано в терминах асимметрии между действующими лицами, традиционно (но не исключительно) охватывающей более мощное, богатое ресурсами государство и менее влиятельное государственное или негосударственное посредничество.
Действует ли большое государство как доверенное лицо маленького государства?
Иногда да. Этот ответ в значительной степени основан на понимании того, что крупные государства могут невольно вести войну чужими руками от имени меньшего государства. Например, возглавляемое американцами вторжение в Ирак в 2003 году и свержение режима Саддама Хусейна осуществили долгосрочные амбиции Ирана, укрепив Тегеран в качестве выдающейся региональной державы, несмотря на отсутствие у американцев желания такого исхода. Достижение стратегической цели через посредников не обязательно должно быть сознательным или обдуманным действием.
Ограничено ли определение термина «война чужими руками» только отношениями между большой властью и малым государством?
Нет. Опосредованные войны не ведутся исключительно государствами или для них.
Особенно в период после окончания холодной войны негосударственные субъекты использовались в качестве доверенных лиц (например, использование Сирией ХАМАСа для нападения на Израиль). В главе 3 подробно рассказывается о том, кто именно ведет опосредованные войны, и исследуется динамика отношений между государствами и негосударственными субъектами.
Динамика опосредованных войнОтношения между благотворителями и их доверенными лицами зависят от контекста и связаны со множеством вопросов, касающихся согласия, уровней вовлеченности и восприятия возможного выигрыша.
Если мы возьмем в качестве примера использование Советским Союзом опосредованных войн в 1970-х годах, то увидим, как указал Брюс Портер, что в подавляющем большинстве случаев «первоначальным стимулом для советской военной помощи был конкретный запрос от клиента из третьего мира, а не предложение Москвы». Это имеет значение для нашего понимания феномена опосредованных войн, поскольку указывает на то, что они по своей сути не являются результатом властного вмешательства более крупных внешних держав, а часто предоставляют возможности для достижения общей стратегической цели. Результаты, независимо от первоначальной причины или мотива, однако неизменно остаются теми же: усиление региональной напряженности и наводнение страны оружием, деньгами или иностранными «советниками».
Вопрос о ранее существовавших союзах между потенциальными благотворителями и клиентами, конечно, может сыграть большую роль в объяснении возникновения опосредованных войн. Если надежность североатлантического союза влияет на то, решат ли страны вступить в войну в рамках обычного межгосударственного конфликта (такого как запутанные международные договоры, вылившиеся в Первую мировую войну), то нет оснований предполагать, что уровень поддержки со стороны союзников должен, во-первых, ограничиваться войной в межгосударственном смысле, во-вторых, быть прямым, а в-третьих, открытым. Сложная динамика конфликтов или желание избежать международного осуждения могут спровоцировать определенные альянсы на демонстрацию своей солидарности косвенным образом.
Если, как утверждал Аластер Смит, нация с большей вероятностью нанесет ответный удар в случае провокации, когда она ожидает поддержки своих союзников, тогда мы должны учитывать, что выполнение пактов о коллективной безопасности и договоров о союзничестве может быть достигнуто как путем прямого вмешательства третьей стороны, так и путем косвенного участия доверенных лиц.
Тем не менее одной из наиболее тревожащих тенденций опосредованных войн остается то, каким образом они обладают способностью потенциально перерастать локальные конфликты в более крупные войны. Проблему эскалации необходимо рассматривать в разбивке по потенциальной помощи, приводящей к увеличению числа смертей в ходе гражданской войны, например из-за распространения оружия, даже если первоначальный конфликт остается локализованным в пределах его первоначальных границ, и ее потенциалу к эскалации конфликта за пределами его первоначальных границ путем заключения пактов о коллективной безопасности между соседними государствами или привлечения другой крупной державы. Исторический опыт опосредованных войн показал пагубную склонность к первому типу эскалации при относительном отсутствии второго. Мортон Гальперин утверждал в 1963 году, что то, что он называл «локальными войнами» (по сути, это региональные конфликты с опосредованным вмешательством сверхдержав), не переросло в «центральные войны» (более широкую, потенциально ядерную войну между сверхдержавами) из-за взаимодействия четырех основных факторов: внешнеполитических целей каждой стороны (которые часто сводились к минимизации участия в дорогостоящих иностранных войнах); предполагаемого риска эскалации конфликта (в частности, желания избежать ядерной напряженности); соответствующих представлений о роли силы (а именно взаимного понимания кажущейся полезности опосредованного вмешательства).
В совокупности, утверждал Гальперин, эти факторы создали взаимное американо-советское понимание опасности эскалации конфликта. Эти критерии гарантировали, что опосредованные войны в начале периода холодной войны – и, возможно, на протяжении всей той эпохи – оставались сдержанными конфликтами, которые не провоцировали открытых международных кризисов между Вашингтоном и Москвой.
В качестве промежуточной позиции между невмешательством и прямым вмешательством еще одной ключевой динамикой опосредованных войн, которую следует учитывать, является их изменчивый характер как с точки зрения отношений между благотворителем и опосредованным лицом, так и с точки зрения размера и размаха самого вмешательства. Отношения «благодетель – доверенное лицо» могут меняться с течением времени. Иногда привязанность ухудшается, и доверенное лицо больше не выполняет стратегическую задачу действовать в интересах благодетеля либо потому, что изменилась стратегическая динамика всего конфликта, либо потому, что военные действия доверенного лица недостаточны, слишком рискованны или ниже номинального уровня. Тем не менее в других случаях это влияние доверенного лица растет, и в отношениях с государством-благодетелем происходит смена власти. Результатом такого сдвига может стать возникновение гораздо более равноправного союза между ними, когда доверенное лицо сможет самостоятельно определять больше своих политических целей и военную стратегию. Это, например, произошло в части отношений между Сирией и «Хезболлой» после 2005 года (полное рассмотрение этого дела см. в главе 3).

Наркокартели Мексики – изначально формировались как прокси-силы США для борьбы с мексиканскими левыми, но вышли из-под контроля
Что касается второй текучей динамики таких конфликтов, мы можем установить, что размер и размах прокси-войн не обязательно остаются неизменными. Они могут перерасти в прямое вмешательство, как продемонстрировало американское участие во Вьетнаме в начале 1960-х годов. Во время президентства Джона Ф. Кеннеди число американских военных «советников» во Вьетнаме возросло с 685 до 16 732. Это должна была быть крупномасштабная война чужими руками, стратегия которой, как утверждал Стэнли Карноу, была основана на противодействии Кеннеди «введению американских боевых частей во Вьетнам, хотя он и не собирался признавать поражение». Значительное постепенное увеличение американской «внешней внутренней помощи» Вьетнаму выросло до такой степени, что первоначальные стратегические параметры, которые предостерегали от прямого вмешательства, были отброшены президентом Линдоном Джонсоном после нашумевшего инцидента в Тонкинском заливе в августе 1964 года. Таким образом, мы можем видеть, как в этом примере первоначальная мелкомасштабная прокси-война переросла в крупномасштабную прокси-войну, а затем превратилась в масштабную наземную войну. Война во Вьетнаме является важным эмпирическим доказательством того, как мы должны отличать опосредованное вмешательство (первоначально с участием военных «советников», не участвующих в боевых действиях) от последующего возможного прямого вмешательства (которое привело к гибели всего 56 000 американских солдат). Стоит изучить это различие более подробно.
Чем опосредованное вмешательство отличается от прямого вмешательства и тайных действийКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.