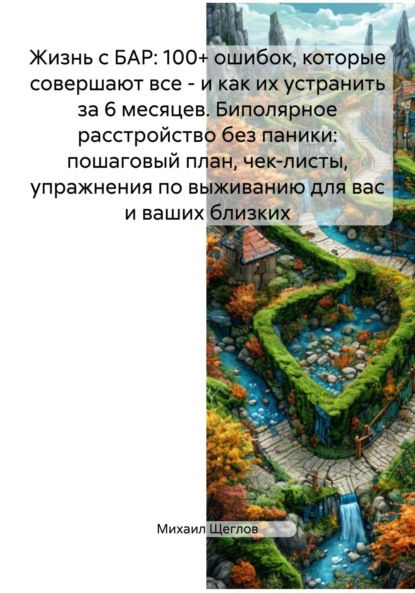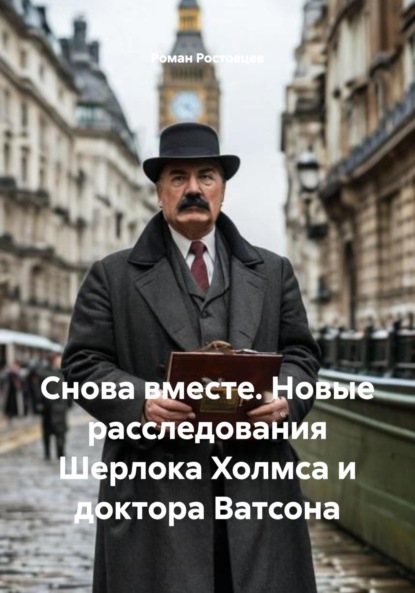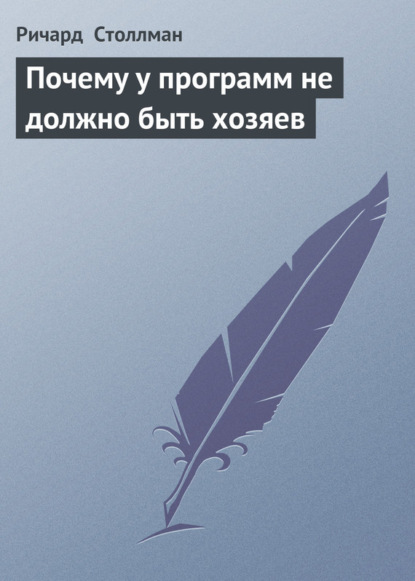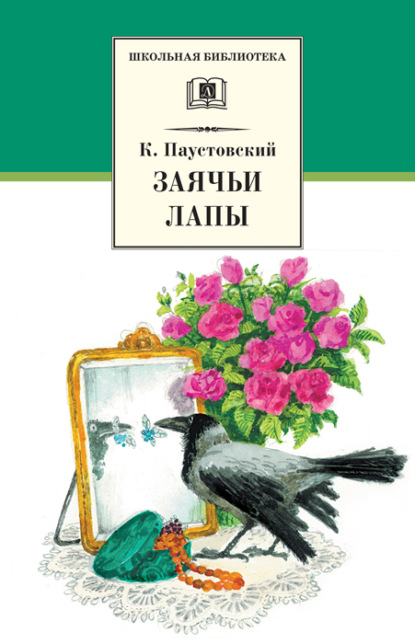Растения философов. Интеллектуальный гербарий
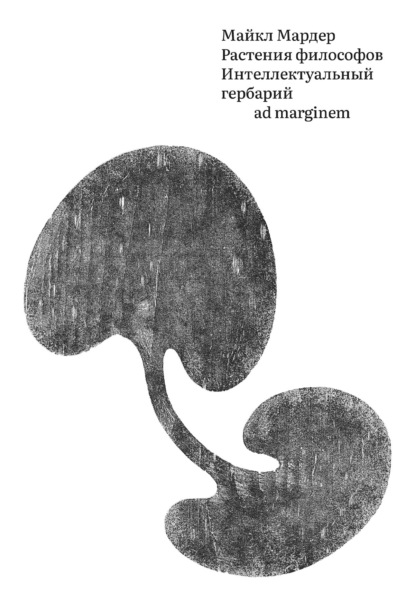
- -
- 100%
- +

© Michael Marder, 2014
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
На обложке: Ханс Арп «Сиамские листья», 1949
Патрисии – расти вместе…
Все мои ботанические походы, разнообразные впечатления от поразивших меня в том или ином месте предметов, мысли, ими порожденные, случаи, которые при этом бывали, – всё это оставило во мне воспоминания, которые пробуждаются при виде растений, собранных в тех местах… Мне стоит только открыть свой гербарий, и вот я уже перенесен туда.
Жан-Жак Руссо. Прогулки одинокого мечтателяЦветы засохли, жизнь покинула их, но что на земле живо, если дух человека не вдохнет в него жизнь? что бессловесно, если человек не наделит его речью?
Г. Ф. В. Гегель. Письмо Нанетт Эндель, 2 июля 1797 годаВсегда есть, отсутствуя в любом саду, цветок, засушенный в книге…
Жак Деррида. Поля философииНет времени, чтобы ходить вокруг да около мысли. Нет времени, чтобы создать из мыслей гербарий…
Элен Сиксу. Манна: для четы Мандельштам, для четы МанделаПролог
Философский гербарий
Мало кто из интеллектуальных титанов Запада так открыто заявлял о своей любви к растениям, как Жан-Жак Руссо. Погружаясь в тщательное изучение ботаники, которое преодолело ограниченные рамки эмпирической науки и стало для него образцом l’art divin, философ надеялся вернуться к нашим природным корням, скрытым из виду извращениями цивилизации. Александра Кук точно определила ботанические размышления и деятельность Руссо, назвав их «целительной наукой», излечением современной души, очищением от разрушительных страстей и возвращением к простоте, спокойствию и истине природы[1].
В свете этой возвышенной ботаники сама философия изменяется до неузнаваемости: philo-sophia, любовь к мудрости, возрождается к жизни с помощью phyto-philia, любви к растениям[2]. Слабый рост человеческой души получает живой стимул от цветения растений, который побуждает мысль, так же склонную к метаморфозам, как одуванчики, описанные Руссо в одном из ботанических писем к своей кузине, госпоже Делессер, в 1793 году[3].
Уже для Сократа забота о душе имела преобладающее философское значение. Целью философии было спасение души от развращенности и упадка через знакомство с ее бессмертным источником в царстве идей. Бо́льшая часть последовавшей за этим западной интеллектуальной истории приняла, не подвергая сомнению, этот сократовский рецепт спасения: мысль должна вернуться к своим неизменным логическим, метафизическим и онтологическим основам, чтобы существовать, продолжительно отдыхая от превратностей повседневной реальности. Утопическое, несуществующее место, предназначенное для спасения, свободное от воздействия времени, предельно удалено от растений, жизнь которых зависит от постоянных изменений и окружающей среды. Возможно, поэтому большинство философов не фитофилы, напротив, они рассматривают произрастание и его неизбежного двойника, увядание, как проклятие истинного философствования.
Несмотря на широко распространенную концептуальную аллергию на растительную жизнь – фитофобию, – философская традиция на Западе не могла совсем обойти проблему растений. Философы отводили им подчиненное место в своих системах, используя прорастание, рост, цветение, плодоношение, размножение и гниение как иллюстрации к абстрактным концепциям, упоминая их мимоходом как фон для своих диалогов, писем и других произведений; употребляя в изысканных аллегориях и рекомендуя соответствующее медицинское, диетическое и эстетическое применение отдельных растений.
Бо́льшая часть этих соприкосновений с флорой была быстротечна и маргинальна, словно растения не заслуживают таких же сосредоточенных размышлений и теоретического внимания, какие полагаются другим существам. Но наше изложение философских идей – в лучшем случае фрагментарное в отношении растений – предназначено не для того, чтобы повторять неудачи прошлого. Книга Растения философов меняет метафизическую традицию, проливая свет на сложные моменты и скрытую суть теоретического дискурса с точки зрения того, что было отнесено к его растительным обочинам. Короче говоря, эта книга поднимает занавес над ролью растений в становлении (и развитии) мысли.
Двигаясь по лежащему перед нами пути, мы посетим поля и сады, леса и рощи, виноградники и огороды. Как опытные философские путешественники, так и новички обретут на этом пути что-то новое для себя: либо неожиданный угол зрения на интеллектуальную историю, в которую они давно погружены, либо знакомство с некоторыми важными фигурами и концепциями.
Путешествие сквозь переплетенные корни и густой подлесок философии может принимать различные формы. Читатель, возможно, выберет линейное движение, следуя хронологии западной философии от Платона до Люс Иригарей, или же захочет самостоятельно побродить по параллельным разделам глав. Такому читателю открыты четыре дополнительные тропинки и дорожки. Тех, кого интересуют истории, где эпизоды жизни (а в некоторых случаях – смерти) философов переплетаются с жизнью растений, могут обратиться к первым параграфам глав. Если вам нравится по крупицам собирать теории растительного существования и изучать, как они согласуются с основными идеями философа, о котором идет речь в главе, советую обратить внимание на второй параграф (иногда и на третий). Третий раздел выявляет скрытый смысл взаимодействия человека с растениями. Заключительные параграфы содержат критические перспективы переоценки как места растений, так и наследия мыслителей, о которых идет речь.
Какой бы маршрут ни выбрал читатель, он столкнется в Растениях философов с интерактивной сетью, где идеи и их авторы связаны с определенными видами растений. Вы вспомните о Платоне, сидя в тени платана, и об Авиценне, готовя суп из сельдерея, когда же вы будете есть виноград или пить вино, вам придет на ум Гегель, а созерцая водяные лилии, в благословенные минуты, вы подумаете об Иригарей. Философские диалоги, трактаты, лекции и размышления станут расти и расцветать в бо́льшей близости к растительной жизни. Словно волшебным образом, философы и их мысли появятся под видом растений, которые их представляют: от великолепных высоких деревьев до скромной, но повсеместно проникающей травы, от прекрасных цветов до сладких плодов.
Оживленные через контакт с растениями метафизические системы, как древние, так и современные, получат вторую возможность отдать должное жизни, которую они обесценили, инструментализировали и сделали банальной. В действительности три последние главы в нашем интеллектуальном гербарии покажут отношение к вегетативному росту, значительно отличающееся от предыдущих, отношение, которое ведет к модификации (если не восстанию против) метафизической традиции. В последней главе в образе водяной лилии Иригарей мысль и растительность снова сольются друг с другом, открываясь восточным философиям и подвергаясь влиянию феминистского мышления.
Растения философов (the philosopher’s plant), однако, это не философский камень (the philosopher’s stone) – та таинственная алхимическая сущность, которая, как предполагали, обращает металлы в золото. Истории, которые вы собираетесь прочесть, не ставят перед растениями задачу простого посредничества между так называемым миром природы и золотыми стандартами концептуальности. Каждое из двенадцати растений, представленных ниже, способствует нашему пониманию идей, связанных с соответствующим автором, не меньше, чем препятствует их ясному пониманию, к примеру, растворяя эту способность человеческого мозга в чистом эстетическом удовольствии, как об этом говорил Иммануил Кант. Деревья, цветы, лозы и злаки, собранные в этой книге, вырастают на краю традиций, которые они иллюстрируют, поскольку история того, что́ в идеале не растет, а именно метафизики, излагается здесь с перспективы того, что́ растет, включая сами растения, которые тайно прорастают в этой истории.
Отсюда второе обоснование того, что Растения философов – не философский камень: не монументальный вклад и не претензия на то, чтобы войти в историю мысли, подобно широко известному фолианту Бертрана Рассела, именно потому, что эта книга отказывается вгонять мысль, прошлую и настоящую, в жесткие, неживые, окаменевшие формы[4]. Вместо того чтобы бросить панорамный взгляд на эту историю, я отобрал, систематизировал и представил некоторых самых видных ее представителей. И вместо того, чтобы подчеркивать их глубокие концептуальные связи, показал некоторое фамильное сходство, проходящее по их генеалогическому древу. Иными словами, я составил «интеллектуальный гербарий».
Немецкий философ и критик Вальтер Беньямин мечтал написать книгу, состоящую почти целиком из цитат, фрагментов произведений, повлиявших на его взгляды, перемежая их собственными размышлениями. Его гигантский труд Пассажи, хотя и неоконченный, представляет собой частичную реализацию этой мечты. В самом деле, цитаты в какой-то мере схожи с растениями, собранными в гербарии. Чтобы лучше понять это сравнение, рассмотрим этимологию слова «антология»: книга, содержащая отобранные тексты, стихи или эпиграммы разных авторов, исходно означала «собрание цветов» (от греческого anthos – «цветок» + logos, происходящего от слова legein, «собирать»). Книга цитат, антология, интеллектуальный гербарий отличаются от канонического стремления выявить суть дисциплины. Ведь цветы – наименее существенная часть растения (и, по эволюционной шкале, последняя по возникновению), использующего вегетативные способы размножения, – так же и их текстуальные аналоги в антологии.
Как фрагменты текста, так и фрагменты растения, отобранные с больши́м вниманием, вырванные из «природного» контекста своего роста, размещены в книге рядом со своими временными соседями. Для Дж. Хиллиса Миллера результат любого перевода таков: «Перевод лишает корней, разрушает естественные свойства, превращает в hortus siccus, то есть в засушенный цветок, готовый к тому, чтобы попасть в бездонные архивы»[5]. Разрушение естественных свойств и упомянутое здесь превращение присущи не только переводу. Возвращаясь к Беньямину, книга цитат (нет ни одной книги, свободной от цитат) это настоящий гербарий – hortus siccus, засушенный сад, который заставляет мысль расти. Она позволяет читателю установить неожиданные связи между различными фрагментами, открыть переходы от одного к другому, подобно тому как ботаник работает над изучением гербария и сравнительной морфологией растений, уделяя особое внимание форме листьев. Просто прислушайтесь к разговору, который начинает разворачиваться между эпиграфами к этой книге! Непроизвольно те, кто привык засушивать листья и маленькие растения целиком между страницами толстых книг, оказываются вовлечены в акт повторения, который удваивает сохранность лакомых кусочков.
Не такой неколебимый, как памятники философам и их работам, hortus siccus всё еще остается отдаленным криком из живого сада. Метафизика крадет существование его непосредственной жизни, обещая взамен воскресение в идеальном мире с его химерами – Идеями, Сущностью, Духом… На закате метафизической традиции Гегель выражает то, что видит как вершину этой тенденции, в своих меланхолических размышлениях о сухих цветах, хранимых в память об умершей подруге: «Цветы засохли, жизнь покинула их, но что на земле живо, если дух человека не вдохнет в него жизнь? что бессловесно, если человек не наделит его речью?»[6] То есть цветы после того, как были засушены, могут по-настоящему жить, жить поистине, воскрешенные «духом человека», который, подобно богу, вдохнет в них новую, высшую витальность. Мысль оказывается в таком же затруднительном положении, обретая свое истинное место в истории, в которую она вступает, когда ее жизненный импульс почти угас. Преломляясь через призму этой мысли, в пиковые моменты весь мир начинает напоминать живой гербарий. С другой стороны, постметафизическая философия, выходящая за пределы заключительного раздела нашего интеллектуального гербария, возвращает растениям и самой мысли жизнь и бытие, принадлежащие им по праву. Вполне возможно, что они смогут продолжать жить после метафизики только в союзе, который создадут друг с другом. Имя, которое я предварительно дал такому союзу, – «растительное мышление».
Полное название Прогулок Руссо, где часто упоминаются его ботанические наблюдения, определяет автора этих размышлений и грез как «одинокого мечтателя». Чувствуя себя отвергнутым обществом, Руссо искал убежища в мире растений, гуляя по окрестностям. Однако одиночество мыслителя вряд ли нас удивит. Сегодня стало привычным изображать философа (в частности, модерного), предающегося размышлениям в мирном одиночестве. Известный пример Рене Декарта, сидящего в халате у камина, служит моделью следующим поколениям. В свою очередь, читатели Растений философов не будут одиноки в своих прогулках. На этой полной мечтаний прогулке вас будет сопровождать множество личностей из прошлого и настоящего, сформировавших западную мысль. Вы станете свидетелем разносторонней беседы между философией и искусством. Но прежде всего вы окажетесь лицом к лицу с растениями.
Руссо всё же ошибался: он тоже был не так уж одинок в своих прогулках, полных «сладких мечтаний», окруженный «зеленью, цветами, птицами»[7]. Верно ли, что мы – еще или уже – погружены в одиночество среди зверей и птиц? Разве «жизнь на природе», как мы обычно говорим, не создает с неизбежностью широкое трансгуманистическое сообщество: жизнь вместе с природой? Если так, где наше место и место нашей мысли в таком сообществе и где мы находимся по отношению к растениям? Интеллектуальный гербарий, который перед вами, одновременно представляет собой картографическую запись этих мест и ряд указаний для тщательного переосмысления этой карты.
I. Древние растительные души
1. Платонов платан
В тени платана
Платон демонстрировал явное отвращение к искусству риторики. В витиеватых речах и приемах убеждения он видел отличительный знак своих заклятых врагов-софистов – выкрутасы, позволявшие им обходиться без настоящей работы мышления, лежащей в основе истинного философствования. С этим отвращением могла соперничать лишь глубочайшая неприязнь к мифам. Предлагая догматические ответы на поиски первопричин, готовая мудрость мифологических нарративов препятствовала неустанному критическому осмыслению философом реальности и самого себя. Миф манил полной противоположностью сократовскому не-знанию, которое, если верить пророчествам дельфийского оракула, и сделало Сократа мудрейшим из смертных. Легкое знание, обещанное мифом (как и легкие деньги – софистами), неизбежно обманывало тех, кто был достаточно наивен, чтобы уверовать.
Несмотря на искушение, Платон не мог заставить себя отказаться от сложных риторических приемов, метафор, тонких сравнений и образных аллегорий, украшавших его диалоги. Рассчитывая на доверчивость читателей, не отказался он и от мифического повествования, плотно вплетенного в ткань его произведений. Одержимый писатель, работавший с множеством черновиков, Платон уделял пристальное внимание ярким декорациям записанных им бесед. И в месте действия диалогов неизменно содержались подсказки относительно того, о чем в них пойдет речь.
Государство начинается с обращения Сократа к своим слушателям: «Я спустился – в Пирей» (Государство. 327а), портовый город неподалеку от Афин. На первый взгляд эта строка вряд ли значима, однако произведения Платона всегда выверены до последнего слова, если не до последнего звука, как утверждает Дж. Б. Кеннеди в своей увлекательной книге Музыкальная структура диалогов Платона[8]. Для тех, кто считывает эзотерический подтекст, выражение «я спустился» наполняется глубоким смыслом – здесь содержится намек на буквальное схождение философа в повседневный мир. В знаменитом мифе о пещере Сократ вторит этому действию рассказом об аллегорическом схождении философа в хаос неисследованных способов мышления. Можно сказать, что утверждение, сделанное в самом начале Государства, покажет, что всё произведение движется по неровным повествовательным линиям встречи Сократа со своими собеседниками именно там, где они находятся в своем собственном познании, а он прилагает титанические усилия, чтобы поднять их над темнотой этой концептуальной пещеры. «Я спустился» – это лаконичное изложение того, что последует дальше, во всяком случае, с точки зрения самого Сократа.
В Федре, диалоге, явно враждебном ars rhetorica и даже в большей степени написанным речам, яркое обрамление в равной степени эффектно. Сократ и его спутник, одолживший свое имя для названия, находятся в сельской местности. Федр выбирает знаменательное место для разговора – мягкую траву, на которую падает тень платана, platanos (Федр. 229a – b). Представлено ли идиллическое природное окружение как противовес письму и риторике, этим презираемым эксцессам цивилизации? Не совсем. Через несколько страниц диалога Сократ признается: «Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местность и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе» (Федр. 230d). Мы не можем научиться чему-либо у деревьев, как ни удобно разговаривать в их тени палящим летним днем. Город с его рыночной площадью (agora) всё же более предпочтительное место для философствования. В чем же тогда смысл рассматривания платана, под которым отдыхают Сократ и Федр?
Как часто случается у Платона, объяснение столь же неожиданно, сколь и иронично. Риторический трюк позволил Платону проникнуть в диалог, не принимая в нем реального участия. Для греческого читателя текста было совершенно очевидно, что платан, platanos, участвует в семантической игре с собственным именем автора – оба слова происходят от греческого platys, что значит «широкий». (У платанов необычайно широкие листья, как и у других сикомор. Поэтому неудивительно, что в Нью-Йорке преобладают деревья, известные как лондонские платаны, более девяноста тысяч их растет в пяти районах города[9].) Ирония в том, что Платон буквально накрывает тенью Сократа и Федра, расположившихся в тени платана. Преувеличенная скромность простого «хроникера» мыслей и великих дел своего учителя – довольно тонкая завеса, скрывающая ученика, который возвышается над сократическим наследием. Более того, тень Платона стала настолько широкой, чтобы сделаться пристанищем всей остальной философии Запада, которая, по словам Альфреда Норта Уайтхеда, не что иное, как ряд «подстрочных примечаний к Платону».
В завершение рассмотрим слова Федра: «… на траву можно сесть и, если захочется, прилечь» (Федр. 229b). В чем здесь соль? Ведь Федр был одним из главных персонажей Пира Платона, великого диалога на тему любви. Его игривое предложение прилечь вместе под деревом – один из очевидных соблазнов. Что же касается Платона, он молча и, возможно, вуайеристски наблюдает эту сцену с высоты своего положения писца и платана, в который он метафорически преобразился. Обертоны сексуальной соблазнительности, пронизывающие этот странный любовный треугольник Федра – Сократа – Платона, неотделимы от очарования окружающей природы. Подойдя к подножию платана, Сократ, не скупясь, хвалит это место, называя «прекрасным уголком», не в последнюю очередь благодаря «развесистому и высокому» платану и тому, что там «столько травы – можно прилечь, и голове будет очень удобно» (Федр. 230b – c). Федр увел афинского критикана далеко за пределы города с его строгими законами и возможностями обучения – в место чистого восхищения. Чудесное окружение, изобилующее мифологическими намеками, пристанище нимф Фармакеи и Орифии, речного бога Ахелоя и бога северного ветра Борея. Одним словом, следуя за Федром, Сократ оказывается у истоков мифа, обрамленных со всех сторон буйной растительностью. Всё, что остается, – это опустить голову на траву, улечься и забыться в блаженном сне, который является сном самого разума.
Но не под надзором Платона! (Не забудьте о платане, который бодрствует, возвышаясь над этой сценой.) Единственное, что может очаровать истинного философа, это соблазнительное обещание знания, сравнимое с очарованием растительности – ветвей с листьями или плодами, – которые привлекают травоядных животных. Еще раз послушайте Сократа:
«Впрочем, ты, кажется, нашел средство заставить меня сдвинуться с места. Помахивая зеленой веткой или каким-нибудь плодом перед голодным животным, ведут его за собой – так и ты, протягивая мне свитки с сочинениями, поведешь меня чуть ли не по всей Аттике и вообще куда тебе угодно. Но раз уж мы сейчас пришли сюда, я, пожалуй, прилягу, а ты расположись, как тебе, по-твоему, будет удобнее читать, и приступай к чтению» (Федр. 230d-e).
С этого момента задача Федра в качестве проводника выполнена. Несмотря на сократовское показное согласие выслушать чтение речи, которую подготовил его собеседник, именно Сократ укажет путь из лабиринтов мифа. Он не щадит ничего и никого, когда оценивает и судит, различает и критикует (например, хорошее письмо и плохое), чтобы создать всесторонний суд самого разума. Неистовое философствование восстановит первоначальный конфликт между платаном и травой, высоким и низким, ибо цветочные воплощения мифической реальности уже очертили иерархию суждений в самых осязаемых понятиях, которые только можно себе представить. Человеческие фигуры Сократа и Федра – но также и читателей диалога: вас и меня – будут, таким образом, подвешены между двумя крайностями, закреплены на вертикальной шкале и иерархической организации мира. Не такие низкие, как трава, и не такие высокие, как величественный платан.
Когда факел переходит к Сократу, который никогда по-настоящему не гасил его, растительные образы не исчезают; напротив, они культивируются, очищаются и пересаживаются в «литературный сад Платона», по удачному определению Кеннета М. Сэйра[10]. Возвышенный, серьезный дискурс – это то, что «насаждают и сеют в ней [подходящей душе] речи», и это не бесплодно, «в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным» (Федр. 276e–277a). Если урожай скуден, можно с уверенностью сказать, что душа, в которой были посеяны разумные слова, не подходила для семантических семян или что сами слова не были разумными. Во всяком случае, платоническая душа – это своего рода эфирная почва для роста logoi – речей, дискурсов и слов, не говоря уже о логике и разуме. Мы будем продолжать кружить вокруг этого перекрестного оплодотворения философии и агроботанического дискурса в труде Платона.
Еще не пришло время покинуть прохладную тень платана, в которую превратился автор Федра. Должны ли мы рассматривать эту ироничную метаморфозу как проявление необузданной поэтической вольности Платона, а не как его дурной вкус? Нет ничего необычного в том, что люди, даже легендарные герои, устали от своего человеческого облика и избрали благородные воплощения в животных в платонических диалогах. Поразительный и оригинальный миф об Эре в конце Государства, где Платон рассматривает идею загробной жизни, обращается именно к такому сценарию – Орфей выбирает жизнь лебедя, а Агамемнон обретает жизнь орла и т. д. (Государство. 620a – b). Почему же тогда душе не принять жизнь растения (скажем, платана или дуба)? Ведь в том же диалоге, где Платон маскируется под дерево, Сократ ссылается на пророческий дуб «в святилище Зевса Додонского» (Федр. 275с). Ведь для Сократа не имеет значения, откуда исходит голос – из дерева или даже из скалы, – до тех пор, пока он говорит правду. Другими словами, логос (или голос истины) достаточно силен, чтобы нивелировать различия между различными классами существ. Что это значит?
Достаточно сказать, что современные системы биологической классификации, формализованные во времена Карла Линнея, чужды древним. Считалось, что каждое существо имеет свою собственную нишу и существует для определенной цели, или telos. Однако контуры этих телеологий не были такими, какими мы их обычно себе представляем. Благородный человек (например, Одиссей), благородное животное (например, лев) и благородное растение (например, благородный лавр) имели больше общего друг с другом, чем два представителя одного и того же «царства», например, лавровое дерево и стебель кукурузы. К тому же границы между биологическими царствами не были высечены в камне. Как мы узнаем в следующей главе, для Аристотеля глупый человек, неспособный следовать строгим принципам логики, буквально становился не лучше овоща. Современные трансгенные исследования тоже постоянно нарушают границы. Растения с бактериальными генами, которые, по-видимому, улучшают их рост, лосось с генами океанской трески или мыши с экспрессией человеческого гормона роста больше никого не удивляют в нашем мире. А что, если характерное для Античности смешение в остальном несходных существ, переходящих друг в друга и выходящих друг из друга, является не фантастическим вымыслом, а проницательным описанием нашего трансгенного настоящего и будущего?