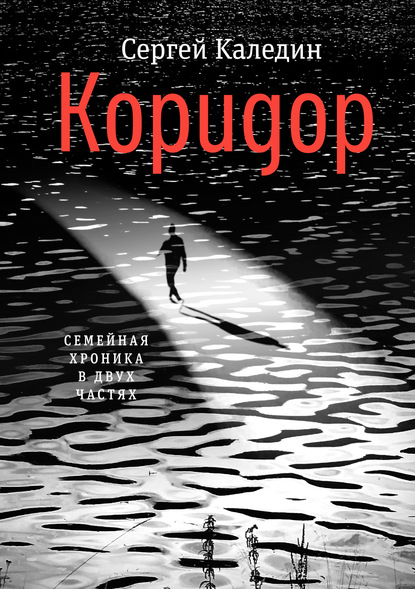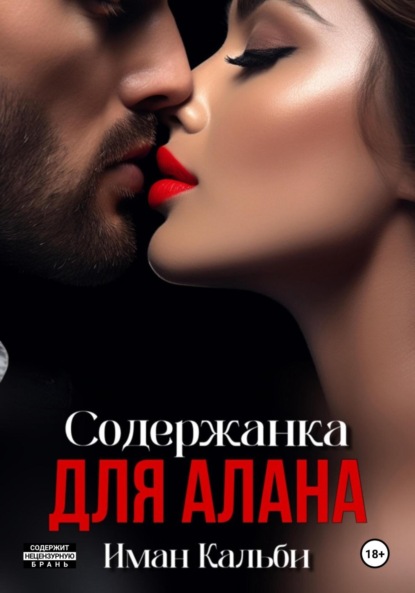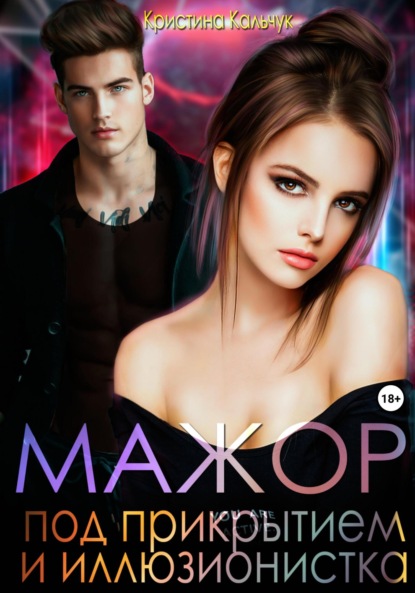Растения философов. Интеллектуальный гербарий
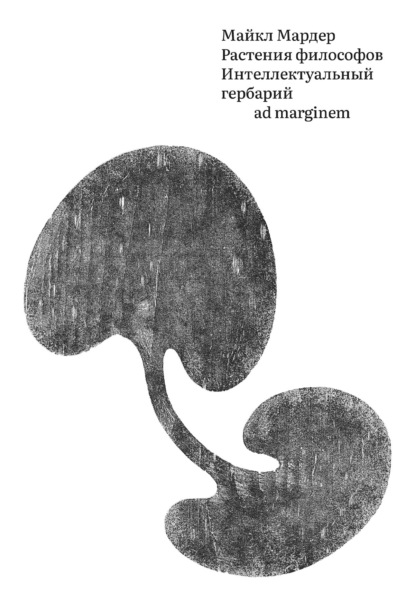
- -
- 100%
- +
Растения небесные и земные
Великий космологический нарратив, сохранившийся в Тимее, содержит ядро теории Платона о жизни растений. Философ полагает, что бесполезно рассматривать растения как единую и однородную категорию существ. Наряду с другими древними мыслителями Платон признает, что так называемые в современной ботанике высшие растения, в том числе деревья, качественно отличаются от менее индивидуализированных низших видов, например травы. Как бы странно это ни звучало, тогда предполагалось, что высшие растения состоят из той же физической субстанции, что и люди. В середине повествования, посвященного божественному сотворению человека, этот более благородный вид растения возникает как единосущное нам живое существо. Боги, рассуждает Тимей, «произрастили некую природу, родственную человеческой, но составленную из иных видов и ощущений и потому являющую собой иной род существ; это были те самые деревья, травы и вообще растения, которые ныне облагорожены трудами земледельцев и служат нашей пользе» (Тимей. 77а). Среди исследователей философии Платона нет единого мнения о том, следует ли нам серьезно относиться к этим рассуждениям. Тимей – наименее сократический и наименее диалогичный из сократических диалогов. По сути дела, это монолог, произнесенный одноименным персонажем текста – или, как саркастически выразился Сократ, «словесное угощение», эвфемизм для словесного поноса (Тимей. 20с), – представляющий собой ошеломительный набор древних космологических и космогонических верований. При этом дискурс Тимея несет на себе печать платоновской мысли, особенно когда речь заходит о жизни растений.
То место в диалоге, где люди представлены в форме «небесных растений», несомненно, является самым замечательным утверждением об отношении «растение – человек» в истории западной мысли:
«Что касается главнейшего вида нашей души, то ее должно мыслить себе как демона – daemon, приставленного к каждому из нас богом; это тот вид, который, как мы говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу как небесное, а не земное порождение; и эти наши слова были совершенно справедливы, ибо голову, являющую собою наш корень, божество простерло туда, где изначально была рождена душа, а через это оно сообщило всему телу прямую осанку» (Тимей. 90а).
Сама по себе классификация человека как своего рода растения подчеркивает близость между растительным царством и нами. Противопоставление земных и небесных растений проводит различие между высшими и низшими видами растительного мира. Тем не менее люди настолько духовно выше высших растений, что вся система пространственных координат («выше – ниже») переворачивается, раскрывая совершенно иную реальность. В то время как наши тела отчасти могут состоять из того же материала, из которого сделаны другие существа, субстанция разумной души происходит из совершенно иной области: эйдетической сферы, или области идей. Именно эта высшая сфера питает нашу психику, прикрепленную к эйдетической почве как бы невидимыми корнями. У земного растения корень – самая нижняя часть, погруженная во влажную тьму земли. Но у небесных растений, которыми мы являемся, корень – это высшая точка, а самая просветленная часть нашего тела – это голова, которая ближе всего и к Идеям. Подобно тому как растительность в поисках опоры держится за землю, небесное растение стоит прямо, и чем оно ближе к своей эфирной почве, тем сильнее. Мы, так сказать, перевернутые вверх ногами растения, голова которых уходит корнями в эйдетическую почву над нами. По сравнению с этой надежной опорой мы движемся столь же хаотично, как ветви деревьев на ветру.
Концептуальный образ небесного растения преподает нам важный урок о природе платоновских идей. Они не находятся в наших головах, хотя разумная душа, обитающая там, произросла из вещества, из которого сделаны идеи. Красоту, Добро и Истину не следует путать с прекрасными, хорошими и истинными вещами, которые сами по себе – туманное отражение соответствующих идей. Даже если в ужасном мысленном эксперименте исчезнет вся чувственная реальность, Красота, Добро и Истина, не говоря уже об Идее дерева, останутся нетронутыми в своей автономной сфере. Потому что вечные и неизменные идеи существуют независимо от нас, людей, которые проходят, словно призраки, по лицу планеты. Только идеи существуют подлинно и полно, не возникая и не исчезая. Более устойчивые, чем сама земля, подверженная оползням и землетрясениям, идеи составляют краеугольный камень философии Платона. Только укоренившись в них, только усвоив взгляд на человека как на небесное растение, мы можем надеяться на то, что приобщимся к устойчивости, которую те обещают.
Напомним, у Платона смысл жизни человека и ключ к его спасению абсолютно не связаны с физической материей и деятельностью, которую мы разделяем с остальными живыми существами, будь то растения или животные. Наш daemon, или дух-хранитель, – это наша способность рассуждать: всё зависит от того, насколько нам удастся воссоединиться с нашими небесными корнями и, в конечном счете, с основой того, что делает нас людьми. Исследование чудесной области идей никак не связано со стремлением к открытому, ориентированному на будущее прогрессу знаний. Вместо него мы возвращаемся к нашим полузабытым эйдетическим истокам, придерживаясь траектории платоновского анамнеза, воспоминания или, точнее, не-забвения.
В качестве небесных растений, подвешенных за невидимые, сходящиеся в наших головах корни к эйдетической сфере, мы подобны марионеткам, полагающим, что они двигаются целенаправленно, тогда как ими управляет рациональный daemon. Разорвите эти связи, и движения человеческого тела сведутся к набору хаотичных движений или бессвязных действий, ибо прочная связь с идеями отвечает за то, чтобы «сообщать нашему телу прямую осанку». С тем же успехом мы могли бы обрубить корни дереву и надеяться, что, оторвавшись от источника своей жизненной силы, оно выживет! Что до человека, то подобный коллапс порой наблюдается, когда разумный daemon в нас на время цепенеет. Возьмем знакомый пример – в состоянии опьянения мы не в силах управлять даже собственными конечностями; тело теряет опору без поддержки, которую обычно черпает из эйдетической почвы.
Но легенда о земных и небесных растениях еще более универсальна. Корни растений, воплощение глубины и сокрытости, нельзя оголить, не нанеся серьезного ущерба всему растению. Можно ли сказать то же самое о корнях небесного растения? Могут ли они быть обнажены? Прямое созерцание идей Платон считает невозможным. Непроницаемая тьма земли скрывает от глаз подземные части растений; ослепительный свет идей не позволяет лицезреть их нашим мысленным взором. Платонизм граничил бы с мистицизмом (слишком распространенное превратное толкование, увы!), делай он ставку на прямую интуицию Красоты, Добра и Истины. Однако Платон запрещает направляться непосредственно к корням небесного растения и без лишних церемоний обнажать питающую его почву. Вот почему он вводит диалоги и, в более общем плане, речь или дискурс в качестве посредника между читателями (и спикерами) и эйдетическим светом.
Каким же образом платан, platanos-Платон, вписывается в разделение между земными и небесными растениями? Как бы высоки ни были настоящие платаны вроде тех, что украшали легендарную Академию в Афинах, им не достичь высот небесного растения. Более того, когда Платон отождествил себя с одним из этих деревьев в Федре, то являл собой, мягко говоря, странную особь – его корни, паря над ним в воздухе, тянулись к царству идей. Над этим несколько нелепым и сложным образом доминирует проекция человеческой фигуры на дерево с его распростертыми конечностями и прямой осанкой, отличающей его (и нас) от большинства животных. Невольно следуя за Платоном, французский поэт Поль Клодель шутя заметил: «L’arbre seul, dans la nature est vertical, avec l’homme» – «В природе вертикально лишь дерево, вместе с человеком»[11]. Тем не менее именно здесь аналогия терпит крах. В то время как растения устремляются от земли вверх, люди растут от небесной земли вниз, их вертикальность перевернута. При самых благородных наших побуждениях мы жаждем этой отдаленной поддержки нашего существования. И многое в платонизме пробуждает ностальгию по небесному растению в поисках своих небесных корней.
Вожделеющие растения, укорененные животные и прочие идеи
Чуть ранее я отметил, что древние системы мышления имели дело с классификациями, совершенно непохожими на современные. Одна из причин изменчивости древних категорий связана с языком. В словаре Платона и его современников просто не имелось особых слов для обозначения «растений» и «животных». (В английском языке оба этих слова происходят от латыни.) Это, разумеется, не означает, что древние греки не могли говорить об этих живых существах. Скорее, по причинам лингвистической необходимости, говоря о растениях и животных, они имели в виду гораздо более широкие категории существ. Таким образом, слово, обозначающее животное, zõon, означало любое «живое существо», и мы всё еще видим следы этой этимологии, посещая зоопарк или решив изучать зоологию. В свою очередь, словом, обозначающим растение, было phuton. Это слово, связанное как с природой в целом (phusis), так и со светом (phõs), относилось к любому «растущему существу». Стало быть, различие между растениями и животными было вопросом того, что именно вы хотели выделить: подчеркнуть живой аспект растущих существ или, напротив, аспект роста живых существ. В этом контексте утверждать, что растение является укорененным животным, лишенным страстей, означало просто говорить, что оно укорененное и бесстрастное живое существо.
Именно это имеется в виду, когда Платон относится к растению как к разновидности животного. Бесспорно, оба являются живыми существами (zõa), хотя их жизненные силы могут несколько отличаться. «Ведь известно, что растения живут, не перемещаясь и не ощущая», – пишет Аристотель (О душе. 410b). Это наблюдение представляется не более чем повторением Платона, который не видит проблем в том, чтобы называть растения zõa. «Всё, что причастно жизни, по всей справедливости и правде может быть названо живым существом» (Тимей. 77a). Но каковы несомненные признаки растительной жизни? Если растения не способны ни к передвижению, ни к восприятию, что у них общего с животными? Как определить жизненную силу живого существа, энергия которого почти полностью уходит на рост (и размножение)?
Ответ Платона однозначен. Используя Тимея как рупор, он твердо заявил, что растения обладают душой, несущей в себе вожделение к еде, питью и всему прочему, – такой же, как и та, что у людей водворена «между грудобрюшной преградой и пупом». Эта душа, добавляет он, «не имеет в себе ни мнения, ни рассудка, ни ума, а только ощущение удовольствия и боли, а также вожделения (Тимей. 77b). Услышав о вожделеющей душе растений, сегодняшние читатели Платона могут утратить самообладание. Они поднимут целый ряд ироничных вопросов: чего хочет мой кактус? В чем состоит удовольствие розового куста – не то удовольствие, что он дарит тем, кто любуется его цветами, а удовольствие самого куста? Не говоря уже о страданиях лианы, чувствах бамбука или желаниях пальмы.
Прежде чем с пренебрежительной ухмылкой отмахнуться от платоновского прозрения, почему бы в силу презумпции невиновности не позволить ему объясниться. Ход его рассуждений на самом деле очень прост. Растения не могут жить, не получая питания, не впитывая воду корнями. (Хотя термин «фотосинтез» имеет греческое происхождение, во времена Платона он еще не был известен.) Когда воды не хватает, растения обнаруживают недостаток влаги и реагируют увяданием. Если растения способны испытывать «жажду» и если желание связано с ощущением отсутствия желаемого у желающего существа, тогда папоротник, который не поливали неделями, действительно жаждет воды.
Оставшаяся часть головоломки – это идея переживаний растений. Действительно ли лишенный воды папоротник чувствует отсутствие объекта своего желания? Для Платона подобное чувство служит безусловной исходной точкой для любой жизни, достойной этого имени. Мало того, современная наука подтверждает его интуицию. В частности, раздел ботаники «коммуникация» демонстрирует бо́льшую сложность растений, чем полагали ранее. Кроме регистрации неблагоприятных изменений окружающей среды (к примеру, засухи или нападения травоядных насекомых), растения с помощью своих корней сообщают о появлении экологических стрессоров, при этом часть информации кодируется ими в биохимических сообщениях, предназначенных для соседей.
Говорить о растительном опыте вполне допустимо, уточнив при этом, что растения лишены самоощущения. Согласно точной формулировке Платона, растение «не видит и не понимает своего состояния и природы. Поэтому, безусловно, оно живет и являет собой не что иное, как живое существо, однако прикреплено к своему месту и укоренено в нем, ибо способности двигаться [вовне] своей силой ему не дано» (Тимей. 77c). Это объяснение подводит нас к новому вопросу, влекущему за собой целый клубок проблем: на каком основании Платон отделяет желание от знания? Разве желание само по себе не предполагает хотя бы зачаточного распознавания? Желающее существо, по меньшей мере, должно уметь отличить желаемый объект от нежелаемого[12].
Растение, разумеется, не задается вопросом о том, что такое вода, у него нет «идеи» воды как отдельного объекта. Его знание вовсе не является концептуальным, оно есть практический результат успешного определения X и не-X (в данном случае воды и не-воды) с помощью соответствующих рецепторов. В этом самом элементарном смысле растения «знают» больше, чем мы думаем. Не так давно ботаник Дэниел Чамовиц подытожил открытия современной науки о растениях в книге Что знает растение. В главах, посвященных исследованию того, «что видит растение», «что слышит растение», а также анализу остальных растительных «чувств», мы сталкиваемся с данными, подтверждающими гипотезу Платона. Возьмем, к примеру, одну из наиболее разумных поведенческих реакций растения, которую мы наблюдаем, – закрытие листьев мимозы при прикосновении. В основе быстрого закрытия листьев лежит механизм регуляции уровня воды в клетках растения. При физическом контакте листья мимозы генерируют электрический заряд, удивительно похожий на потенциалы действия в нервных клетках животных, который заставляет клетки листьев освобождаться от воды. Как только миниатюрный гидравлический насос заканчивает свою работу, давление воды на оболочку клеток падает, и лист закрывается[13]. Растение не только знает, что к нему прикасаются, но и использует определенное вещество, а именно воду, для достижения желаемого результата – закрытия листьев – и при определенных условиях может научиться не закрывать свои листья[14].
Конечно, по оценке Платона, растительное желание не достигает подобных высот изощренности. Оно сосредоточено исключительно в вожделеющей душе, с ее удовольствиями и страданиями, голодом и временным пресыщением, физическими желаниями и фрустрацией. Растения Платона – это чисто гедонистические существа, так как у них просто нет другой способности души (то есть способности рассуждать), которая могла бы ограничить их стремления. У нас, людей, также есть вожделеющая душа, расположенная примерно в области желудка. Но это всего лишь низшая психическая область, которая сдерживается одухотворенной душой, обитающей ближе к сердцу, и разумной душой, водворенной в голове. При условии, что разумная душа твердо управляет моими действиями, я без причины не стану действовать подобно неразумному желудку; каким бы голодным я ни был, я не стану вырывать кусок хлеба из рук другого человека. Гармонично функционирующая человеческая душа – это страсти, подчиняющиеся закону разума с помощью духа-посредника. То же относится и к идеальному политическому режиму, описанному Платоном в Государстве, где элемент, родственный вожделеющей душе, класс производителей (работников), подчиняется царю-философу, который воплощает собой принцип разума при посредничестве одухотворенного класса стражей. Отсюда следует, что работники у Платона не только существа, руководствующиеся исключительно желанием, но и самые растительные из людей.
Иерархические оценки небесных и земных растений возвращаются с удвоенной силой, причем в беззастенчиво политической форме. Гармония не возникает волшебным образом из равенства; она обусловлена аксиомой, согласно которой высшее должно «по природе» руководить и править низшим: разум – вожделением, царь-философ – работниками, небесное растение – земным. Важно отметить, что имплицитная предпосылка Платона в этом аргументе заключается в том, что гармоничное устройство всегда предполагает минимальную степень сложности, требующей дифференциации и специализации частей в едином целом. Но как насчет одушевленного кактуса? Низший тип души у человека является одновременно и высшим, и низшим у растения, для которого вожделеющая душа – часть в наборе, состоящем из одного элемента. Растение оказывается великим уравнителем, нивелировщиком иерархий и воплощенным вызовом самой идее о границах. Как отреагирует Платон на эту молчаливую угрозу растительного происхождения?
Вполне предсказуемо, он будет ценить окультуренные растения выше диких. Культурные растения «ныне облагорожены трудами земледельцев и служат нашей пользе» (Тимей. 77а) и, следовательно, в значительной степени сродни людям. Там, где в идее о границах нет внутренней меры и умеренности, разграничения растению будет навязывать что-то или кто-то извне. Сельское хозяйство – неотъемлемое право культуры, трофей в победе человеческого духа над ужасающим изобилием дикой природы. Еще раньше Платон вводит иерархическую систему в растительное царство, ставя культурные виды, символ человечества в целом, выше диких. (Предоставляю читателю гадать, какое место в этой иерархии займут сорняки, нежелательные спутники культурных растений. Но это немного другая история, к которой я вскоре вернусь.)
Второй рецепт Платона по нейтрализации растительной угрозы стал фирменным знаком всей (или почти всей) последующей западной философии. Древнегреческий мыслитель вернул флору в систему негативных сравнений с людьми. Не заблуждайтесь: предположение о том, что мы единосущны одомашненным растениям и разделяем с ними вожделеющую душу, не означает нашей близости к зеленым братьям и сестрам. Небесные растения были закодированы как пространственно и концептуально противоположные земной растительности, с которой мы пересекаемся только в самых низких, грязных и физически зависимых областях нашего бытия. Предоставленные самим себе необузданные желания, душа растений и психосоциальный характер работников – вещи, которые, по мнению Платона, структурно эквивалентны, – выбивают у нас почву из-под ног или, точнее говоря, с корнем вырывают наши головы из их истинной почвы, забрасывая нас в чрезвычайно опасную зону. Поддаться их диктату – значит стать не лучше дерева, даже столь величественного, как платан.
Но за шквалом негативных сравнений Платону так и не удалось полностью избавиться от навязчивой идеи, побудившей его уподобить процесс роста растений, каким бы иным и неземным он ни был, самому главному, что делает нас людьми. С энтузиазмом обесценив настоящую почву и укоренившиеся в ней растения, он санкционировал и увековечил образ, eidos, или идею растения, содержащую ключ к нашему пониманию себя. Его учение о том, что мы растения наоборот – перевернутые вверх ногами, укорененные в небесной почве, – содержит в себе самые убедительные выводы его философствования.
Две почвы, два растения, два мира?
Короче говоря, противопоставление небесных и земных растений предвосхищает так называемую теорию двух миров. Миры, о которых идет речь, – это, с одной стороны, мир идей, открытый разуму, а с другой – мир явлений, доступный чувствам. Первый – основание вечного, истинного, неизменного бытия; второй – основа конечного роста и мимолетного становления. Как и всё остальное в платоновской мысли, это разделение отображается на вертикальной оси «высокое – низкое»: небесная сфера идей как в пространственном, так и в оценочном плане выше сферы явлений. Но – voilà, главный парадокс платонизма! – «высокое» и «низкое» – это реляционные термины, подразумевающие друг друга и, следовательно, исключающие возможность абсолютного разделения между двумя мирами. Маркеры трансцендентности отменяют тот самый трансцендентный толчок, о котором они объявляют. Вертикальный континуум проходит сквозь различия, примиряя противоположности. Идеи и явления, разум и чувства, небесные и земные растения – все они находят надлежащее место на этой «разделительной линии», как окрестил ее Платон. И человек остается растением, пусть и небесным.
Парадокс, который мы только что отметили, также является сутью величайшего педагогического начинания Платона. Дело не в том, чтобы беспристрастно описать разделение двух миров, а в том, чтобы помочь своим читателям совершить переход от незрелой подвластности чувствам к жизни, озаренной идеями. Сработай этот квазирелигиозный переход в массовом масштабе, Сократу, по расчетам Платона, не был бы вынесен смертный приговор неразумным жюри из пятисот афинян, большинство из которых поверили софистической аргументации. Кто бы мог подумать, что жалкое растение способно проиллюстрировать переход из одного мира (или из одной жизни) в другой?
Ярким центральным элементом Государства является миф о пещере. Согласно этой сократической аллегории, люди, очарованные миром явлений, подобны пленникам в тускло освещенной пещере, лишенным света солнца (идей). Героический философ спускается в мрачное подземелье, чтобы организовать побег из тюрьмы к высотам разума, освобождая тех, кто живет в оковах чувств. Если верить Люс Иригарей, чья философия добавит последний лист в наш интеллектуальный гербарий, платоновская пещера – это метафора матки[15], поскольку греческое слово «пещера», hystera, также означает матку и стоит у семантических истоков слова «истерия», которая первоначально считалась невротическим состоянием, вызванным расстройствами матки. Смелое прочтение Иригарей, безусловно, не лишено смысла, учитывая самоидентификацию Сократа как «акушера идей», облегчающего повторное рождение его собеседников в мир разума. Альтернативное толкование, которое я хотел бы представить выше, не отменяет, а дополняет феминистский взгляд Иригарей на Платона.
Растительная жилка мысли Платона намекает на возможность интерпретации мифа о пещере как повествования не столько о рождении животных, сколько о прорастании семян. Там описывается, как небесные растения проросли из темной почвы явлений к свету идей. Солнце, играющее столь важную роль в платоновском нарративе, ускоряет этот процесс, щедро изливая свет и тепло на молодые человеческие ростки. Несомненно, солнце способно также погубить – ослепить и сжечь – цветущие растения, если переход из подземного мира в царство идей слишком резок (Государство. 515с). Вот почему так важна роль Сократа: подобно садовнику, он ухаживает за растущими душами, обеспечивая им надлежащую опору, чтобы духовные лозы могли подняться собственными силами, используя усики своего понимания. (Образ заботливого садовника еще вернется к нам в главе о Плотине.)
Проницательные читатели легко обнаружат в этой аллегории очевидный изъян. Когда семена земных растений прорастают, они тянутся вверх и вниз одновременно, черпая жизненную силу из солнечного света, подземной влаги и минеральных веществ. В своем впечатляющем величии платаны достигают высоты тридцати метров, но их корни уходят на метры вглубь. Согласно предположению о том, что земные процессы роста применимы к мифу о пещере, питание к прорастающим небесным растениям должно было бы поступать как из мира явлений, так и от света идей. Тем не менее ничто не может быть дальше от главной мысли Государства, по крайней мере, в традиционном ее прочтении. В случае своего второго рождения люди должны освободиться от земных связей и, преодолев смятение, вызванное этим искоренением, отыскать свои истинные корни в другом месте, в сфере идей. Возможно, акт выкорчевывания небесного растения из повседневной реальности смешивает наше понимание Платона с так называемой теорией двух миров? Является ли положение этой теории о полном разделении чувств и разума чем-то вроде отбраковки растений?
Предположим, разделение было бы идеальным. В таком случае тем, кто своим мысленным взором видел идеи, понадобилось бы предельно изолировать себя от жизни плоти с ее чувственным восприятием и удовольствиями, то есть символически (или, возможно, буквально) умереть для этого мира. Скорее всего, именно этого и следовало бы ожидать от философов: монашеского самоотвержения вдали от шума и суеты повседневной жизни.
Однако невозможно соответствовать этому стереотипу меньше, чем Сократ – образцовый философ. Известный своей неугомонностью, он охотно участвовал в пирах (симпозиумах) афинской аристократии и рыскал по рынку в безрезультатных поисках человека мудрее себя. Верный собственному предписанию, Сократ вернулся в пещеру явлений, чтобы дать заключенным в ней шанс выйти на широкие и светлые просторы идей. Он пребывал в двух, казалось бы, несовместимых мирах и, в отличие от Платона-как-платана, превратил себя в растение, которое соприкасалось как с тусклостью явлений, так и с яркостью идей.