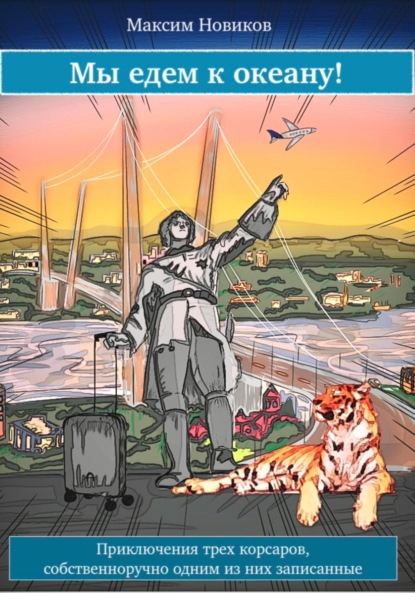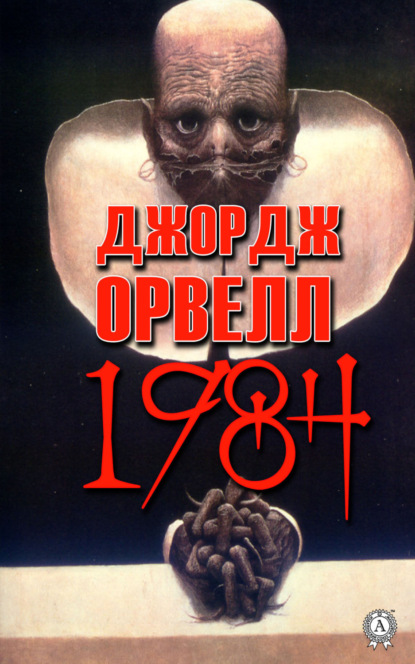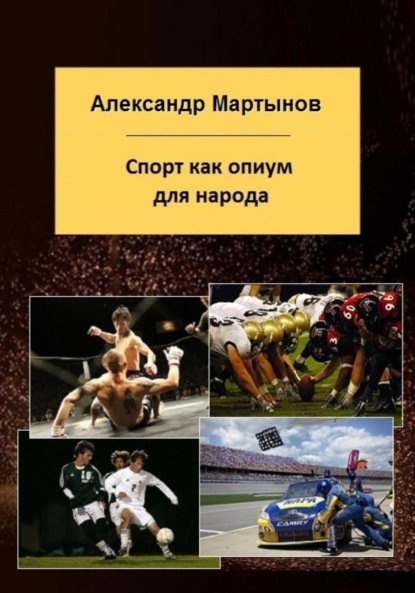Растения философов. Интеллектуальный гербарий
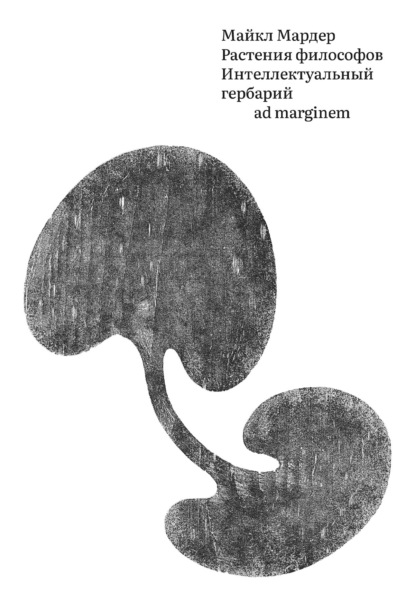
- -
- 100%
- +
Философ не случайно повторяет подвиг Орфея, который спустился в подземный мир в поисках своей возлюбленной Эвридики. Исследовать свою жизнь означает ежедневно погружаться в глубины своей души, уходящей корнями во мрак бессознательного, подобно тому, как подземная часть растения погружается во тьму земли. В меньших масштабах каждый из нас по отношению к себе является одновременно Орфеем и Эвридикой, Сократом и обитателем пещеры. Трудная миссия разумных и конечных созданий, таких как мы, состоит не столько в том, чтобы обнаружить наши небесные корни, сколько в том, чтобы привести их в соответствие с плотской частью небесных растений, какими мы являемся. Однако мы не первые, кто совершает это маленькое чудо, в котором два становятся одним. Хотите примеров? Достаточно взглянуть на дерево на вашей улице, чтобы понять, как успешно, хотя и незаметно, оно растет и в землю и в небо.
2. Пшеница Аристотеля
Философский хлеб (с маслом)
Аристотель, от самого Платона получивший прозвище «читатель», а в Средние века известный как Ille Philosophus – Философ, в одиночку осуществил систематизацию философии и наделил ее уникальным словарем. Слова со скромным обыденным смыслом обрели новую жизнь, преобразившись в руках Мастера в отвлеченные понятия. Большинство из них почти два с половиной тысячелетия спустя выдержали испытание временем, оставаясь незаменимым инструментарием нашей профессии. Философы каждой исторической эпохи будут по-прежнему мечтать о бесстрастном, чисто логическом дискурсе истины. Однако пока аристотелизм будет служить организующей матрицей нашей дисциплины, этим мечтаниям не суждено сбыться. Подобно тому как Платон, во многом вопреки своим заявленным желаниям, навсегда объединил философию с повествованием и мифом, Аристотель – возможно, тоже против воли – привязал ее судьбу к превратностям обыденного языка. Любая попытка концептуального прояснения, какой бы дерзкой она ни была, неизбежно должна вернуться к «нечистому» источнику мышления и разобраться с его последствиями. У Гегеля и Витгенштейна мало общего, кроме трезвого осознания этой необходимости, превращенной ими из непоправимого недостатка в силу своего философствования.
Ходить далеко за примером не приходится. Термин «материя», который мы склонны воспринимать как нечто само собой разумеющееся, относится к числу непреходящих достижений Аристотеля. Он также произошел от обыденного слова hyle, означающего в разговорном греческом «дерево», будь то растущий лес или древесина[16]. В отличие от ее современного варианта, аристотелевская материя не относится к чему-то, имеющему объем и массу; она не описывает физическую протяженную субстанцию. Напротив, она связана с материалом, из которого сделана вещь, с «материальной причиной» вещи. Материя – это просто материал (бронза, камень и так далее), прежде чем тот обретет узнаваемую форму. Любопытно, однако, что один тип материала – дерево – дает свое название материальности как таковой. В соответствии со своим доконцептуальным происхождением материя, по сути дела, деревянная!
Таким образом, растительный мир послужил источником вдохновения для создания важнейшего понятия Аристотеля. Помимо смутного намека на растительность, есть и особое растение, последовательно встречающееся в таких разных текстах, как Физика, Метафизика, Политика и Никомахова этика. Это растение – пшеница. В Метафизике предпочитаемый Аристотелем злак демонстрирует сильнейшую причастность к связке «есть». Мы подразумеваем разные вещи, замечает Аристотель, когда «говорим, что в камне есть [изображение] Гермеса и что половина линии есть в линии, и называем хлебом [sitos] хлеб еще не созревший» (то есть растущий стебель) (Метафизика. 1017b). В первом случае статуя бога находится в камне лишь потенциально, ожидая резца скульптора, который выведет ее во всем ее великолепии на свет; во втором случае половина линии содержится в целой линии, частью которой она является; и в третьем – существует удачное совпадение, необходимое тождество между «еще не созревшим хлебом» (растущим стеблем) и «хлебом».
Этот стебель пшеницы, над которым мы склоняемся вместе с Аристотелем, – крошечный образчик рода, который он представляет. Возможно, это незрелый и несовершенный образец, не тот, что воплощает род в целом. И всё же растущий стебель есть пшеница в более глубоком смысле, чем еще не вытесанная из камня статуя Гермеса или часть в целом, половина линии в линии. Почему? Потому что это мгновенная актуализация злака не просто как потенциальности, присущей семени, а как присутствия растения перед нами, даже если определение «растущий» или «еще не созревший» запрещает приписывать этому или любому другому живому существу полное присутствие. (Здесь может оказаться полезным краткий экскурс в значение слов «актуализация» и «потенциальность». В то время как первый термин подразумевает приведение чего-либо в действие или исполнение определенной роли в драме существования, второй вращается вокруг чистой способности или силы – по-латыни potestas – это сделать.)
Давайте остановимся и перевернем назад страницу нашего гербария. Мы только что оставили позади платан Платона. Контраст между непритязательным, хотя и преднамеренно посеянным, злаком Аристотеля и великолепным, хотя и диким, деревом Платона, не случаен. Переводя мысленный взор с одной страницы интеллектуального гербария на другую, вспомните еще один образ: легендарное изображение Платона и Аристотеля в Афинской школе Рафаэля. В центре знаменитого шедевра эпохи Возрождения Платон кончиком пальца указывает вверх на трансцендентный мир идей (или привлекает наше внимание к кроне платана за пределами холста?), тогда как Аристотель опускает руку ладонью вниз, заземляя знания и само человечество в мире «здесь и теперь». Аристотель неявно отвергнет представление своего учителя о людях как о «небесных растениях». Поставленный перед выбором между платаном и травой, обрамлявшими сцену в Федре Платона, он выберет скромную, льнущую к земле траву. Пшеница, по сути дела, даже лучше травы, поскольку злак – полезное, культивируемое растение, требующее изнурительного труда, а не зеленый ковер, приглашающий к неторопливой беседе. Иными словами, злак выполняет определенную мирскую цель – а Аристотель был неравнодушен к сети намерений или целей, которые, по его словам, сделали всю Вселенную таковой, какова она есть, – предлагая нам предвкушение того, что символизирует всё человеческое пропитание: наш пресловутый хлеб насущный.
Разумеется, греческое слово sitos применялось более широко, обозначая любой из основных продуктов питания. Символично, что это был общий термин для обозначения человеческой пищи. В Трудах и днях Гесиода, например, люди названы «хлебоядными мужами». Гомер в Илиаде рассказывает о том, что «всеблаженные боги», в отличие от людей, хлеба [sitos] «не едят, не вкушают вина, потому-то крови и нет в них, и люди бессмертными их называют» (Илиада. V 382–384). Одно и то же существительное использовалось для обозначения не только самого́ культурного растения, съедобного продукта, который из него получали, и всех видов человеческой пищи, но также различных злаков, включая пшено и ячмень. Эта семантическая путаница, несомненно, предоставила Аристотелю достаточно пищи для размышлений, став помехой в его настойчивых попытках создать четкую классификацию и устранить двусмысленность. Повседневный язык, со всей его неразберихой, вторгся в философский труд по упорядочению и объяснению. А неожиданным предвестником вторжения стал ничтожный стебель пшеницы, одновременно олицетворявший и опровергавший рассуждения Аристотеля.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Cook A. Jean-Jacques Rousseau and Botany. The Salutary Science. Oxford: Voltaire Foundation, University of Oxford, 2012. Р. 15, 17. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания автора; если ссылка дается им на произведение, опубликованное на русском, то в сноске указывается русскоязычное издание.
2
Для более подробного изучения фитофилии Руссо см.: Marder M., Vieira P. Writing Phytophilia: Philosophers and Poets as Lovers of Plants // Frame: Journal of Literary Studies 26. No. 2 (November 2013). Р. 39–55.
3
В том же письме Руссо пишет: «Необходимо следить за цветами со времени, когда они еще не раскрылись, до полного созревания плода, и в этой последовательности метаморфоз». Rousseau J.-J. Elementary Letters on Botany // Collected Writings of Rousseau. Vol. 8 / ed. C. Kelly. Hanover: University Press of New England, 2000. Р. 155.
4
Я имею в виду, разумеется: Рассел Б. История западной философии / пер. с англ. М.: АСТ, 2010.
5
Miller J. H. Black Holes. Stanford: Stanford University Press, 1999. Р. 151.
6
Гегель, письмо Нанетт Эндель, 2 июля 1797 года.
7
Руссо Ж.-Ж. Прогулки одинокого мечтателя / пер. М. Розанова и Д. Горбова // Избранные сочинения. Том 3. М.: ГИХЛ, 1961. С. 58.
8
Kennedy J. B. The Musical Structure of Platonic Dialogues. Durham, N. C.: Acumen, 2011.
9
http//www.nycgovparks.org/tree-census/2005-2006/summary
10
Sayre K. M. Plato’s Literary Garden: How to Read a Platonic Dialogue. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1995.
11
Claudel P. La connaissance de l’est. Paris: Gallimard, 2000. P. 148.
12
Carpenter A. Embodied Intelligent (?) Souls: Plants in Plato’s Timaeus // Phronesis: A Journal of Ancient Philosophy 55. No. 4 (2010). Р. 281–303.
13
Чамовиц Д. Тайные знания растений / пер. З. Зарифовой. М.: Центрполиграф, 2016.
14
Этот непроверенный факт я почерпнул из беседы с доктором наук Моникой Гальяно.
15
Irigaray L. The Speculum of the Other Woman. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1985.
16
Английское слово matter (материя, суть, вещество) произошло от латинского materia, которое, в свою очередь, является производным от того же корня, что и mater, мать. Заманчиво сделать вывод, что, тогда как греческое hyle подчеркивает внешний аспект материи, латинское materia указывает на внутреннюю природу его источника или происхождения. Однако не следует спешить с выводами. Португальское madeira, этимологически близкое к mater, возвращает нас к греческому значению, так как обозначает твердую сердцевину дерева. – Примеч. ред.