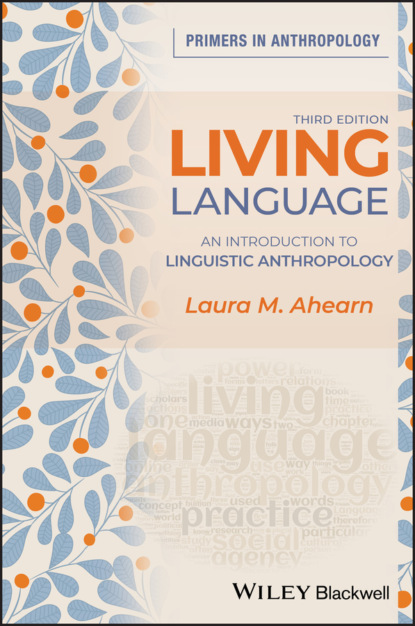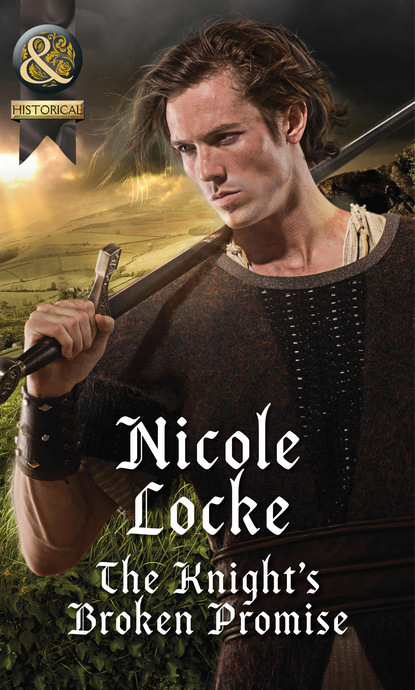Алый снег Петербурга

- -
- 100%
- +

Последний выход Авроры
Музыка угасала, таяла в бархатной синеве зала, словно последний вздох умирающего лебедя. Но для Елизаветы Ланской, для ее Авроры, это было не угасание, а апофеоз, точка наивысшего горения, после которой остается лишь ослепительный пепел. Последнее па, замершее в воздухе на долю секунды дольше, чем позволяли законы земного притяжения, было не просто движением, но утверждением. Утверждением того, что красота есть высшая, единственная правда в этом трещавшем по швам мире. Ее тело, невесомое в белом облаке пачки, казалось, было соткано не из плоти и крови, а из самой мелодии Чайковского, из лунного света, пробивавшегося сквозь нарисованные своды дворца.
Занавес еще не тронулся с места, но она уже чувствовала его. Этот ток, идущий из темноты зрительного зала. Он был почти осязаем, как жар от раскаленной печи, как наэлектризованный воздух перед грозой. Секунда тишины, плотная, звенящая, в которой, казалось, уместилась целая вечность ожидания, а потом – взорвалось.
Аплодисменты ударили не в уши – они ударили в грудь, в солнечное сплетение, волной, которая едва не сбила ее с ног. Это был не просто одобрительный гул, не вежливый шелест аристократических ладоней. Это был рев, шторм, тысячеголосый вопль восторга, который обрушился на сцену, смывая усталость, боль в натруженных до предела мышцах, сомнения последних репетиционных недель. Елизавета сделала глубокий, судорожный вдох, и воздух показался ей сладким, как запретный десерт. Она опустила голову в низком поклоне, и золотистая пыльца с ее ресниц осыпалась на гулкие доски подмостков. Цветы летели к ее ногам – тугие бутоны роз, хрупкие камелии, тяжелые гроздья сирени, чей душный аромат мгновенно смешался с запахом канифоли и разгоряченного тела.
Она кланялась снова и снова, улыбаясь той особой, сценической улыбкой, которая ничего не выражала и одновременно вмещала в себя все: и благодарность, и царственное снисхождение, и безмерное одиночество вершины. Она искала в темном, безликом чреве зала одно лицо, но видела лишь сотни белых пятен – накрахмаленные манишки, бледные декольте, блеск лорнетов и бриллиантов в высоких прическах. Золото лож, казалось, плавилось в свете рампы, стекая в партер тяжелыми, вязкими каплями. Последняя сказка уходящей эпохи, как шепнул ей на днях старый импресарио. Тогда она не придала этому значения, но сейчас, стоя в этом урагане звука, она вдруг почувствовала ледяной укол – а что, если и вправду последняя?
Тяжелый бархатный занавес с гербом Императорских театров наконец дрогнул и пополз вниз, отсекая ее от этого ревущего, обожающего ее мира. И сразу все изменилось. Волшебство испарилось, оставив после себя гулкую пустоту, сквозь которую проступили настоящие звуки: скрип лебедок, тяжелое дыхание танцоров кордебалета, сухие команды помрежа. Воздух за кулисами был другим – спертым, пахнущим пылью, потом и мышиным пометом. Аврора умерла, осталась Лиза Ланская, девятнадцатилетняя девушка с гудящими ногами и сердцем, колотящимся где-то в горле.
«Ну что, дитя мое, проглотила их?» – раздался за спиной знакомый, чуть скрипучий голос. Анна Михайловна Шелестова, бывшая прима, а ныне ее наставница и самый строгий критик, стояла, скрестив на груди руки. Ее лицо, похожее на старинную камею, было непроницаемо. – «Главное, не подавись. Любовь публики – вещь скоропортящаяся. Сегодня они носят тебя на руках, завтра – брусчаткой в твое окно».
«Анна Михайловна, не начинайте», – выдохнула Лиза, пытаясь отдышаться. Она прижалась лбом к холодной, покрытой вековой пылью кирпичной стене. Кирпичи, казалось, хранили в себе эхо всех прошедших здесь спектаклей, всех триумфов и провалов.
«Я и не начинаю. Я предостерегаю, – Шелестова неодобрительно поджала губы, но в глубине ее темных, умных глаз мелькнуло что-то похожее на гордость. – Танец был безупречен. Легкость нечеловеческая. Но в глазах… в глазах сегодня была тревога. Это хорошо для Жизели, но не для Авроры. Аврора не знает тревог. Запомни, на сцене ты должна оставлять все свое, человеческое. Зритель платит не за твои страхи, а за свои мечты».
Лиза кивнула, не в силах спорить. Анна Михайловна была права. Тревога была. Она поселилась в ней несколько недель назад, с тех пор как город наполнился слухами, угрюмыми лицами в хлебных очередях и этим низким, едва слышным гулом, похожим на гудение натянутой до предела струны. Этот гул просачивался даже сюда, в святая святых, в этот храм искусства, где время, казалось, остановилось.
Костюмерша помогла ей снять тяжелую, расшитую жемчугом пачку, и Лиза, накинув на плечи старый шелковый халат, пошла к своей гримерной. Коридоры театра были похожи на лабиринт Минотавра: узкие, темные, с внезапными поворотами и лестницами, ведущими в никуда. Здесь смешивались эпохи и судьбы. На стенах висели пожелтевшие афиши, с которых смотрели красавицы, давно обратившиеся в прах. Из-под какой-то двери доносился пьяный смех статистов, где-то вдали настройщик терзал рояль. Это был ее мир, ее единственная настоящая жизнь. До недавнего времени.
Дверь в ее маленькую гримерную была приоткрыта. Обычно она была заперта на ключ. Сердце сделало нелепый, болезненный скачок. Она толкнула дверь и замерла на пороге.
Он стоял у окна, спиной к ней, глядя на заснеженную Театральную площадь. Высокая, прямая фигура в серой офицерской шинели казалась чужеродной в этом царстве пудры, шелка и увядающих цветов. Дмитрий Орлов. Даже со спины она узнала бы его из тысячи – по этой строгой линии плеч, по тому, как неподвижно и напряженно он стоял, словно на посту.
Он обернулся на тихий скрип двери. И мир вокруг Лизы снова обрел свой центр. Его лицо, обычно сдержанное, почти суровое, сейчас было тронуто какой-то незнакомой ей мягкостью. В проницательных серых глазах плескалась нежность.
«Капитан», – выдохнула она, закрывая за собой дверь. В маленькой комнате, заваленной букетами и сценическими костюмами, его присутствие ощущалось особенно остро. Он принес с собой запах мороза, дорогого табака и чего-то еще – неуловимого, тревожного, запаха внешнего мира.
«Прима-балерина», – ответил он с легкой усмешкой, и это простое слово прозвучало интимнее самого страстного признания. Он сделал шаг к ней, и расстояние между ними исчезло. Его руки, сильные, в жестких кожаных перчатках, легли ей на плечи поверх тонкого шелка. Лиза подняла голову, вглядываясь в его лицо. Усталые складки в уголках глаз, волевой подбородок, чуть обветренные губы. Он был воплощением совсем другого мира – мира приказов, дисциплины, стали и пороха. Мира, который одновременно пугал и неудержимо влек ее.
«Ты видел? Все получилось?» – ее голос был тихим, почти детским. Она спрашивала не о триумфе, не об овациях. Она спрашивала о чем-то большем, и он это понял.
«Я видел не Аврору. Я видел тебя, – его голос был низким, с легкой хрипотцой. – Я видел, как ты умирала от усталости в последнем фуэте и как воскресала заново. Ты была… ты была как пламя свечи в соборе. Готова погаснуть от любого сквозняка, но освещаешь все вокруг».
Он снял перчатку и коснулся ее щеки. Его пальцы были холодными, но от этого прикосновения по ее коже пробежал жар. Она закрыла глаза, прижимаясь к его руке. Здесь, в этом крошечном пространстве, в кольце его рук, гул большого города затихал. Существовали только они вдвоем.
«Я боялся не успеть. В полку… неспокойно, – сказал он вполголоса, словно нехотя выпуская в их хрупкий мир отголоски той, другой реальности. – На улицах тоже. Что-то назревает, Лиза. Что-то нехорошее».
«Не говори об этом. Не сейчас, – прошептала она, поднимаясь на цыпочки и касаясь губами его губ. – Сейчас есть только театр. И мы».
Его поцелуй был не похож на те, что она видела в немых синематографических драмах. Он был требовательным и нежным одновременно, глубоким, как омут, и обжигающим, как глоток ледяной водки. В нем была вся та страсть, которую он сдерживал там, в темноте ложи, глядя на нее, недосягаемую, на сцене. Она отвечала ему со всей отчаянной смелостью первой и единственной любви. Ее руки обвились вокруг его шеи, пальцы запутались в жестких темных волосах на затылке. Хрустальная дробь пуантов рассыпалась по гулким подмосткам, словно бисер с лопнувшей нити фамильного ожерелья, а здесь, в тесной гримерке, бились два сердца, и этот ритм был важнее любой музыки.
Он оторвался от ее губ, тяжело дыша. «Сумасшедшая, – выдохнул он, утыкаясь лбом в ее лоб. – Ты пахнешь снегом и розами. Как ты это делаешь?»
«Это магия театра», – улыбнулась она.
«Нет. Это твоя магия».
Он оглядел комнату: ворох тюля на стуле, балетные туфельки, расставленные у зеркала, как маленькие солдатики, полупустая баночка с гримом. Этот мир был ему бесконечно чужд, но женщина, стоявшая перед ним, была самым настоящим, самым важным, что было в его жизни. Важнее присяги, важнее полковых знамен, важнее самой России, которую он поклялся защищать и которая на его глазах рассыпалась в прах.
«Я принес тебе подарок», – сказал он, отстраняясь и доставая из-за пазухи небольшой, плоский сверток.
Лиза с любопытством развернула промасленную бумагу. Внутри, на подкладке из темного бархата, лежал маленький дамский револьвер, перламутровый, изящный, похожий на дорогую игрушку.
Она отшатнулась. «Дмитрий, зачем? Я… я не умею».
«Научишься. Времена меняются, Лиза. Быстро меняются. Пусть он будет у тебя. Просто на всякий случай. Я буду спокойнее». Его лицо снова стало серьезным, офицерским. Он вложил холодную тяжесть металла в ее ладонь, и это ощущение было таким странным после легкости сценических вееров и бутафорских корон. Ее тонкие пальцы пианистки, привыкшие к шелку лент, неловко сомкнулись на рукояти.
«Мне страшно», – призналась она тихо.
«Мне тоже», – так же тихо ответил он, и в этом простом признании было больше мужества, чем в любой бравурной атаке.
Внезапно с улицы донесся какой-то новый звук. Не привычный гул пролеток и редких автомобилей. Это был протяжный, слитный крик, потом – резкий треск, похожий на выстрел. Или на звук лопнувшей доски. Дмитрий мгновенно напрягся, его тело подобралось, как у хищника. Он шагнул к окну, осторожно отодвинув край тяжелой портьеры.
Лиза подошла и встала рядом с ним. На площади, тускло освещенной газовыми фонарями, творилось что-то странное. Кучки людей, похожих на рабочих, сбились у памятника Екатерине. От них отделялась и снова примыкала к ним цепочка конных городовых. Движение было лихорадочным, нервным, как у муравьев в растревоженном муравейнике. Снег, падавший весь вечер, теперь казался серым, грязным. Он больше не был похож на декорацию к «Щелкунчику».
«Что там?» – прошептала Лиза.
«Ничего хорошего, – отрывисто бросил Дмитрий, не отрывая взгляда от улицы. – Хлебные бунты. Третий день уже. Власти уверяют, что все под контролем. Но это ложь. Никто ничего не контролирует».
Еще один резкий хлопок, на этот раз ближе и отчетливее. Где-то вдали зазвенело разбитое стекло. Крик толпы стал громче, яростнее. Лиза почувствовала, как по спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с февральским морозом. Ее сказочный мир, ее хрустальный дворец, обнесенный невидимой стеной искусства, дал трещину. И в эту трещину заглядывал хаос.
«Мне нужно идти, – сказал Дмитрий, отпуская портьеру. Комната снова погрузилась в уютный полумрак. – Наш полк поднят по тревоге. Мы должны быть в казармах».
«Не уходи. Останься еще немного», – она вцепилась в рукав его шинели, как утопающий.
Он мягко высвободил руку и обнял ее, крепко, почти болезненно. «Я вернусь, – сказал он ей в волосы. – Послезавтра у тебя нет спектакля. Я заеду. Мы уедем куда-нибудь. В "Палкинъ". Будем пить шампанское и говорить о всяких глупостях. О музыке. О Париже. О чем угодно. Обещаю».
Но в его голосе не было уверенности. Это обещание звучало как заклинание, как молитва, обращенная к богам, в которых он давно перестал верить.
Он поцеловал ее в последний раз – быстро, твердо, на прощание. И, не оборачиваясь, вышел из гримерной, его шаги быстро затихли в пустых коридорах.
Лиза осталась одна. Тишина давила, наполненная отголосками чужой ярости за окном. Она подошла к зеркалу, обрамленному тусклыми лампочками. Из зазеркалья на нее смотрела бледная девушка с огромными, испуганными глазами. Грим Авроры потек от слез, которых она даже не заметила. На столике, среди роз и фиалок, лежал перламутровый револьвер. Он казался живым, зловещим существом, пробравшимся в ее мир из другого, страшного измерения.
Она медленно провела пальцами по холодным лепесткам подаренных роз. Их шипы кололи кожу. Снаружи снова донесся крик. Ей показалось, или в нем звучало не только отчаяние, но и пьянящее, дикое торжество?
Последняя сказка уходящей эпохи закончилась. Занавес опустился. И никто не знал, что ждет их всех, когда он поднимется снова. И поднимется ли вообще.
Шелк и порох
Два дня спустя триумф превратился в ноющую боль, разлитую по каждой мышце, и в серый, безжалостный свет, просачивающийся сквозь гигантские, запотевшие окна репетиционного зала. Холод здесь был особого свойства – не уличный, кусачий, а застарелый, въевшийся в камень стен и стертый до желтизны паркет. Он пробирался под шерстяное трико, заставляя кожу покрываться мурашками, и превращал каждое движение у станка из искусства в преодоление. Старый тапер, Семен Израилевич, кутаясь в позеленевший от времени шарф, извлекал из расстроенного рояля звуки, похожие на хруст тонкого льда под ногами. Мелодия была пресной, выцветшей, лишенной всякой страсти – идеальный аккомпанемент для этого безрадостного февральского утра.
Елизавета выполняла plié, медленно, до предела растягивая непослушные связки. Она пыталась сосредоточиться на музыке, на отражении в тусклом, покрытом пятнами зеркале, где бледная, почти бесплотная фигура в черном повторяла ее движения. Она пыталась воскресить в себе Аврору, то ощущение полета, всемогущества, которое еще позавчера пьянило ее на сцене. Но магия ушла. Осталась лишь работа, тяжелая, как труд каторжника, и глухая, неотвязная тревога, поселившаяся где-то под ребрами.
Город за окнами гудел. Этот гул уже не был фоном, он стал частью воздуха, проникал сквозь толстые стены, заставляя стекла едва заметно дребезжать. Он был ниже и глуше, чем обычная городская суета, – утробный, раскатистый, как далекий обвал. Иногда он прерывался резкими, выкриками, похожими на крики чаек над замерзшей Невой, а порой – сухим треском, который все упорно называли «лопнувшей автомобильной шиной». Лиза знала, что это не шины.
«Ланская, спину! – донесся скрипучий голос Анны Михайловны, сидевшей на стуле в углу зала, как постаревшая парка, прядущая нити чужих судеб. – Ты не мешок с картошкой несешь, а королевскую осанку. Вообрази, что у тебя на голове корона. И не дай ей упасть, даже если под ногами разверзнется ад».
Елизавета выпрямилась, чувствуя, как между лопатками пробежал ледяной ток. Ад. Слово прозвучало буднично и оттого особенно страшно. Она бросила взгляд на других девушек у станка. Их лица были сосредоточены и бледны. Они тоже все слышали, все чувствовали, но балетная дисциплина была сильнее страха. Мир мог рушиться, но battement tendu нужно было дотянуть до конца. Это был их способ держать оборону, их последний бастион порядка в наступающем хаосе.
Дверь в конце зала распахнулась без стука, впустив облако морозного пара и человека, который, казалось, принес с собой всю вьюгу и смуту петроградских улиц. Это был Дмитрий. Не тот элегантный гвардейский капитан, что стоял в ее гримерной два дня назад. Шинель его была расстегнута, в волосах запутались снежинки, а лицо, обычно гладко выбритое, покрывала темная щетина. Но не это поразило Лизу. Его глаза. В них не было ни нежности, ни усмешки – только стальная, выжигающая усталость и что-то еще, похожее на отсвет далекого пожара.
Все замерли. Даже Семен Израилевич взял неверный аккорд, и фальшивая нота повисла в холодном воздухе, как вопрос без ответа. Дмитрий обвел зал тяжелым взглядом, нашел Лизу и едва заметно качнул головой в сторону выхода. Это был немой приказ, и она подчинилась ему инстинктивно, без раздумий.
«Прошу прощения, Анна Михайловна», – пробормотала она, на ходу хватая с лавки шаль.
Шелестова ничего не ответила, лишь плотнее сжала тонкие губы. Ее взгляд провожал Лизу с неодобрением и затаенным сочувствием.
В коридоре Дмитрий взял ее за руку. Его ладонь была ледяной даже сквозь ткань перчатки. Он не говорил ни слова, лишь тащил ее за собой по гулким, пустым переходам. Его молчание было страшнее любых криков.
«Что случилось? Дима, что?» – шептала она, едва поспевая за его широким, размашистым шагом.
«Потом. Не здесь», – отрезал он.
Он привел ее в костюмерную – огромное, сумрачное помещение в глубине театра, куда редко кто заглядывал. Здесь пахло нафталином, пылью и ушедшими жизнями. Вдоль стен тянулись бесконечные вешала с нарядами для всех спектаклей сразу: тяжелые бархатные плащи бояр из «Бориса Годунова», воздушные хитоны нимф из «Сильвии», камзолы мушкетеров, кринолины фрейлин. Под потолком висела бутафорская клетка для Жар-птицы, а в углу сгрудились картонные лебеди с облупившейся позолотой на клювах. Это было царство мертвых королей и сказочных зверей, кладбище чужих страстей.
Дмитрий плотно прикрыл тяжелую дубовую дверь и только тогда отпустил ее руку. Он прислонился спиной к двери, словно держал оборону, и провел рукой по лицу, стирая с него и снег, и напряжение.
«Город горит, – сказал он тихо, без всякого выражения. Голос его был хриплым и глухим. – Не в прямом смысле. Пока. Горят полицейские участки. Окружной суд. Арсенал захвачен. Толпа вооружается».
Лиза смотрела на него, не в силах до конца осознать смысл этих рваных, телеграфных фраз. Ее мир, выстроенный по законам гармонии и строгого такта, где самой большой катастрофой была порванная лента на пуантах, не мог вместить этой реальности.
«Но армия… войска… казаки…» – пролепетала она заученные слова из газетных передовиц.
Дмитрий горько усмехнулся. «Армия? Волынский полк сегодня утром перешел на сторону восставших. Убили своего командира. Семеновцы и преображенцы пока держатся, но это вопрос часов. Солдаты не хотят стрелять в народ. Они братаются, делятся папиросами. Казаки, наша последняя надежда, просто сидят на конях и смотрят. Некоторые улыбаются. Это конец, Лиза. Государь в Ставке, правительство растеряно. Власть валяется на улице, и ее подбирает кто попало».
Он говорил, а она смотрела на него и видела не просто вестника дурных новостей. Она видела человека, чей мир рухнул. Весь его кодекс чести, вся его жизнь, построенная на незыблемых понятиях «присяга», «долг», «отечество», – все это обратилось в прах за несколько дней. И от этого понимания ей стало страшнее, чем от новостей о пожарах.
«А ты? Что ты будешь делать?» – ее голос дрогнул.
«Я? – он посмотрел на свои руки, словно видел их впервые. – Я должен вернуться в полк. Есть еще офицеры, верные… верные не знаю уже чему. Наверное, самим себе. Мы пытаемся что-то сделать. Собрать верные части, вывести их из города. Но нас слишком мало». Он поднял на нее глаза, и в их глубине она увидела такую бездну отчаяния, что у нее перехватило дыхание. «Я пришел, чтобы увидеть тебя. Я не знал, будет ли у меня другая возможность».
Это признание, облеченное в простую, страшную форму, разрушило последнюю стену между ними. Она шагнула к нему и обняла его, вцепившись в холодную, колючую ткань его шинели. Она прижалась к нему всем телом, пытаясь своим теплом, своей жизнью отогреть тот лед, что сковал его изнутри. Он сначала стоял неподвижно, как каменное изваяние, а потом его руки сомкнулись на ее спине с такой силой, что она едва не вскрикнула. Он уткнулся лицом в ее волосы, собранные в тугой узел на затылке, и вдыхал их запах – слабый аромат фиалкового мыла и канифоли. Запах другого, еще живого мира.
«Мне страшно, Дима», – прошептала она в складки его воротника.
«Знаю», – выдохнул он.
Они стояли так долго, посреди бутафорского великолепия, слушая, как гулко бьются их сердца и как за толстыми стенами ревет и стонет обезумевший город. Страх никуда не ушел. Он был здесь, в комнате, он пропитал собой воздух, он осел пылью на бархатных костюмах. Но сейчас, в этом объятии, он был снаружи, а внутри их маленького, хрупкого круга было только отчаянное тепло двух живых существ, прижавшихся друг к другу перед лицом неизбежного.
Он отстранился, лишь для того, чтобы заглянуть ей в лицо. Его пальцы коснулись ее щеки, потом шеи, скользнули вниз, к ключицам, торчащим из выреза тренировочного платья. Его взгляд был голодным, жадным, словно он пытался запомнить каждую черточку, каждую родинку, впечатать ее образ в свою память навечно. Время сжалось, уплотнилось, и в этом единственном мгновении не было ни прошлого, ни будущего – только это сумрачное хранилище театральных снов и двое людей на краю пропасти.
Он поцеловал ее. Этот поцелуй не имел ничего общего с той нежной, ворованной лаской в гримерной. Он был яростным, требовательным, полным горечи и страсти. Он целовал ее так, словно это был его последний глоток воздуха, последний кусок хлеба. И она отвечала ему с такой же отчаянной силой. Ее руки поднялись к его лицу, пальцы ощутили колючую щетину, очертили линию волевого подбородка. Она хотела коснуться его, ощутить его всего, доказать самой себе, что он настоящий, живой, что его не отнял у нее этот ревущий за стенами хаос.
Его руки скользнули с ее плеч на талию, затем на бедра, сжимая ее сквозь тонкую ткань, притягивая еще ближе. Она почувствовала холод пряжки его офицерского ремня и жесткую кожу портупеи. Он пах порохом. Не явно, но уловимо. Этот запах смешивался с морозом, талым снегом и табаком. Он был запахом его мира, запахом войны. И сейчас этот мир врывался в ее жизнь, подчиняя ее себе.
Он подхватил ее на руки так легко, словно она была одной из тех картонных лебедей, и сделал несколько шагов вглубь костюмерной. Он опустил ее на груду старых театральных плащей, сваленных на огромный дубовый сундук. Алый бархат плаща кардинала Ришелье, синий шелк наряда принца Зигфрида, парча из одеяния царя Додона – вся эта мертвая роскошь стала их ложем.
Не было слов. Они были не нужны. Были только руки, губы, прерывистое дыхание. Он расстегивал пуговицы на ее платье, и его пальцы, привыкшие к холодной стали затвора, были неловкими и торопливыми. Она помогала ему, распутывая узлы и завязки, а сама тянулась к нему, пытаясь расстегнуть крючки на воротнике его шинели, чтобы коснуться живой, теплой кожи на его шее.
Это был союз шелка и пороха. Ее тело, гибкое, натренированное, привыкшее к строгой геометрии танца, сейчас двигалось по иным, древним, инстинктивным законам. Его тело, напряженное, покрытое сетью старых шрамов от германской шрапнели, искало в ее мягкости забвения и утешения. Когда он накрыл ее собой, тяжесть его тела была не гнетом, а защитой. Щитом от того мира, что бушевал снаружи. Лиза закинула голову, и ее рассыпавшиеся волосы смешались с фальшивым горностаем королевской мантии. Она смотрела вверх, в сумрачную темноту под потолком, где пыльные лучи света выхватывали из мрака позолоченные копья и деревянные мечи, и ей казалось, что они не в костюмерной Мариинского театра, а в каком-то ином измерении, в последнем убежище, где еще действуют законы любви, а не законы ненависти.
Их близость была не столько наслаждением, сколько актом неповиновения. Они утверждали свою жизнь, свое право на счастье, свою любовь посреди рушащейся империи. Каждое прикосновение было вызовом смерти, каждый вздох – гимном жизни. Она обвила его ногами, прижимая к себе еще теснее, пытаясь слиться с ним воедино, стать одним целым, которое невозможно разорвать, уничтожить, разделить. В этот миг она не была ни прима-балериной Ланской, ни сказочной Авророй. Она была просто женщиной, отчаянно цепляющейся за своего мужчину, за единственную опору в мире, который сорвался с цепи. А он не был ни гвардейским капитаном Орловым, ни защитником престола. Он был просто мужчиной, нашедшим в объятиях женщины свой единственный, последний окоп, свою последнюю пядь родной земли, за которую стоило умереть.
Потом все кончилось. Он лежал на ней, уткнувшись лицом ей в плечо, и его тело содрогалось от беззвучных рыданий или от сдерживаемого крика. Она гладила его по коротким, жестким волосам, и слезы сами катились из ее глаз, падая на его щеку, на его шинель, на алый бархат под ними. Тишина в костюмерной стала плотной, оглушающей. Но сквозь нее теперь еще отчетливее доносился гул с улицы, к которому прибавился новый, тревожный звук – далекий и прерывистый колокольный набат.
Он поднялся первым. Движения его снова стали резкими, собранными. Он быстро привел в порядок свою форму, застегнул все пуговицы, поправил ремень. Он не смотрел на нее. Лиза села, запахнув на груди платье. Алый плащ сполз на пол, обнажив синий шелк. Она чувствовала себя бесконечно уязвимой и одновременно странно сильной.