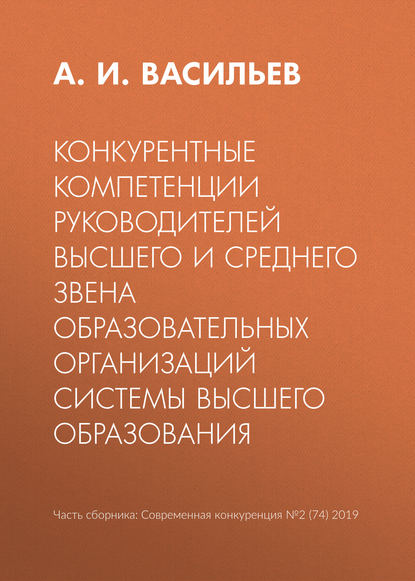Бал под чёрным флагом

- -
- 100%
- +
Кабинет графа находился на первом этаже, в самом конце коридора. Дверь из массива дуба, с тяжелой бронзовой ручкой. Эвелина замерла перед ней, прислушиваясь. Тишина. Она достала из потайного кармана тонкую стальную пластинку с отмычками. Пальцы похолодели и плохо слушались. Она сделала глубокий вдох, выдохнула, отгоняя страх. Казимир был прав: страх парализует. Ей нужна была холодная ярость. Она представила лицо отца, измученное и седое, каким видела его в последний раз. Ярость вернула ей контроль над телом.
Отмычка вошла в замочную скважину. Замок был старый, английский, сложный. Она работала в полной темноте, наощупь, полагаясь только на чувствительность пальцев. Минута, другая. Пот стекал по ее вискам. Внутри механизма что-то щелкнуло. Еще один щелчок, глухой, маслянистый. Дверь поддалась.
В кабинете пахло так же, как и в библиотеке – кожей и табаком, но к этому запаху примешивался еще один, едва уловимый – остывающего металла и оружейной смазки. Лунный свет падал на огромный письменный стол, заваленный бумагами. Это было логово зверя.
Эвелина не стала зажигать свечу. Она достала из кармана коробок фосфорных спичек, которые давали слабое, призрачное свечение на несколько секунд. Первая вспышка. Она осмотрелась. Стены были увешаны картами. Не охотничьи угодья. Карты Индии, Судана, Афганистана, испещренные красными и синими флажками, линиями передвижения войск. На каминной полке стояли в ряд оловянные солдатики, выстроенные в боевом порядке. На кресле была небрежно брошена сабля в потертых ножнах. Это было рабочее место солдата, стратега.
Она подошла к столу. Вторая спичка. Бумаги, лежавшие сверху, были отчетами о поставках фуража, расписаниями движения поездов, донесениями о настроениях в портах. Ничего секретного. Она начала выдвигать ящики. Один за другим. Счета, контракты на аренду земли, родословная его лошадей. Все было продумано. Он знал, что сюда могут залезть. Он оставил на виду лишь то, что не имело значения.
Ее пальцы скользнули по нижней части столешницы. Дерево было гладким, но в одном месте она нащупала крошечную неровность. Нажала. Раздался тихий щелчок, и часть резной панели под столом отошла в сторону, открывая потайной ящик. Сердце подпрыгнуло. Вот оно.
Третья спичка. В ящике лежало всего несколько предметов. Револьвер «Вебли» – тяжелый, вороненой стали. Стопка писем, перевязанных черной лентой. И книга. Небольшой томик в простом кожаном переплете без названия. Эвелина взяла его. Бумага была старой, страницы пожелтели по краям. Она открыла его наугад. Это были не донесения и не шифры. Это были стихи. Нет, не стихи. Это был дневник. Почерк был неровный, страстный, совершенно не похожий на четкие, уверенные буквы графа.
Четвертая спичка, последняя. Она поднесла ее к странице.
«…16 октября. Сегодня говорил с Аластером. Он не понимает. Он называет это «юношеским идеализмом». Он говорит о долге, о порядке, об Империи, словно это священные идолы, которым нужно приносить кровавые жертвы. А я вижу лишь цепи, которые эта Империя накладывает на весь мир, на каждого из нас. Он говорит, что я читаю не те книги. Но разве Шартье не прав, говоря, что «тирания – это не власть одного, а молчание всех»? Мы молчим, пока наши братья в Ирландии голодают, пока рабочие в Манчестере задыхаются в угольной пыли ради прибылей тех, кто сидит в своих клубах. Аластер не видит этого. Он видит лишь карту, фигуры, стратегию. Он не видит людей. Но я верю, что придет день, когда люди перестанут быть пешками в его игре. Грядет буря, которая сметет этот прогнивший мир, и я хочу быть не зрителем, а самим ветром…»
Спичка догорела, обжигая пальцы. Эвелина замерла в темноте, сжимая в руках дневник. Это был не его дневник. Это был дневник его покойного брата. Того самого, что, по слухам, погиб при невыясненных обстоятельствах. Того самого, увлекшегося революционными идеями.
Она нашла не компромат на врага Империи. Она нашла его самую глубокую, самую сокровенную рану. Этот человек, этот холодный, безжалостный стратег, каждый день сидел за столом, под которым хранил дневник, полный тех самых идей, с которыми он так яростно боролся. Он не уничтожил его. Он хранил его, как реликвию. Или как вечное напоминание.
Внезапно все встало на свои места. Его одержимость борьбой с радикализмом, его цинизм, его презрение к идеалам. Это была не просто верность короне. Это была личная вендетта. Война с призраком собственного брата, которого он, возможно, любил и которого, несомненно, не смог спасти. Образ графа-палача, такой ясный и цельный, рассыпался на куски, как разбитое зеркало. А в осколках она увидела нечто гораздо более страшное: не монстра, а человека, сломленного той же трагедией, что и она сама, только с другой стороны баррикад.
В этот момент в коридоре за дверью скрипнула половица.
Звук был тихим, почти неуловимым, но в ночной тишине он прозвучал, как выстрел. Эвелина застыла, превратившись в камень. Ее кровь, казалось, замерзла в жилах. Кто-то был там. Стоял прямо за дверью. Слуга? Охрана? Или он сам? Она медленно, стараясь не дышать, задвинула потайной ящик на место. Книга осталась у нее в руках. Выхода не было. Окно выходило на открытый газон. Ее поймали. Брошь-камелия на воротнике ее платья вдруг показалась невыносимо тяжелой. Это был ее последний довод.
Она прижалась к стене рядом с дверью, в самой густой тени, сжимая в одной руке тяжелый том, а другой нащупывая лепесток на броши. Дверная ручка медленно, без единого скрипа, начала поворачиваться.
Поцелуй под дождем
Дверная ручка повернулась с мучительной, выверенной медлительностью, которая была страшнее любого резкого звука. Это не был слуга, спешащий по ночному делу. Это был хищник, наслаждающийся моментом перед тем, как захлопнуть пасть. Эвелина не дышала. Воздух в ее легких превратился в стекло, готовое расколоться на тысячи осколков. Она вжалась в стену, дневник брата Блэквуда был ледяным, тяжелым прямоугольником в ее руке, бесполезным щитом. Другая рука застыла на броши, большой палец нащупал крошечный рычажок лепестка. Один поворот. Десять секунд.
Дверь отворилась, и на пороге, в прямоугольнике лунного света, вырос силуэт графа Стерлинга. Он был в халате из темного шелка, босой. Он не сделал ни шага в комнату. Он просто стоял, и его неподвижность заполняла все пространство.
– Потеряли дорогу, мадемуазель? – его голос был тихим, почти бархатным, лишенным всякого удивления. В нем не было вопроса, лишь констатация факта, облеченная в саркастическую вежливость.
Эвелина молчала. Любое слово было бы ложью, и любая ложь была бы сейчас оскорбительно глупой. Она чувствовала, как его взгляд обшаривает темноту, и была уверена, что он видит ее так же ясно, как если бы в комнате горели все свечи. Он знал, где она стоит. Он, вероятно, слышал биение ее сердца сквозь дубовые панели.
Он сделал шаг вперед, и лунный свет упал на его лицо. Оно было спокойным, почти скучающим. Затем его взгляд опустился на ее руку, сжимавшую книгу.
– А, – протянул он так же тихо. – Нашли что-то занимательное для чтения? Боюсь, в нашей библиотеке есть куда более достойные образцы. Это всего лишь сборник довольно посредственных стихов и наивной философии. Мой брат не обладал талантом ни к тому, ни к другому.
Он говорил о дневнике так, словно это была случайная книга, забытая на столе. Но каждое слово было точным, выверенным ударом. Он не обвинял ее во взломе. Он сразу перешел к сути, к тому, что она держала в руках, к самому сердцу его тайны, показывая ей, что вся ее игра в кошки-мышки окончена. Он поймал ее не у двери. Он поймал ее с поличным, с душой его брата в ее руках.
Эвелина заставила себя сделать шаг из тени. Скрываться больше не имело смысла. Она подняла подбородок. Ее лицо было бледной маской в полумраке.
– Поэзия может быть опаснее любого оружия, милорд. Особенно если она говорит правду.
Он медленно кивнул, словно соглашаясь с очевидной истиной.
– Именно поэтому ее пишут только очень юные или очень глупые люди. Остальные предпочитают оружие. Оно честнее. Верните книгу, мадемуазель Вольская.
Это был приказ. Она колебалась всего мгновение. Затем медленно подошла к столу и положила дневник на полированную поверхность. Он не двинулся с места, наблюдая за ней. Расстояние между ними сократилось до нескольких шагов. Она чувствовала исходящий от него жар, видела, как вздымается и опадает шелк халата на его груди.
– Завтра утром мы едем верхом, – сказал он, меняя тему с той же легкостью, с какой перевернул бы страницу. – В восемь. Экономка позаботится, чтобы вам подобрали амазонку. Вы ведь ездите верхом?
Она не успела ответить.
– Разумеется, ездите, – закончил он за нее. – Спокойной ночи.
Он повернулся и вышел, прикрыв за собой дверь так же бесшумно, как и вошел. Щелчок замка, который он повернул снаружи, прозвучал для Эвелины громче выстрела. Он не запер ее. Он просто вернул все на свои места, словно ничего не произошло. Но это простое действие было высшей формой унижения. Он показал ей, что может открыть и закрыть любую дверь в этом доме, включая ту, что она считала своей. Он не видел в ней угрозы. Он видел в ней лишь фигуру на своей доске, которую он передвинул, куда хотел, и теперь оставлял до следующего хода.
Она стояла посреди кабинета еще несколько минут, чувствуя, как адреналин сменяется ледяной, парализующей пустотой. Она провалила задание. Хуже – она попалась. Но вместо допроса и разоблачения он пригласил ее на конную прогулку. Эта игра была сложнее и страшнее, чем она могла себе представить.
Утро встретило ее небом цвета разбавленного молока и воздухом, острым и чистым, пахнущим влажной землей и прелыми листьями. Эвелина почти не спала, но на ее лице не было и следа усталости. Дисциплина, вбитая годами, взяла верх. Она облачилась в идеально подогнанную амазонку из темно-синего сукна. Строгий костюм сидел на ней как вторая кожа, как униформа, возвращая ей чувство контроля.
Блэквуд ждал ее у конюшен. Он уже был в седле, на высоком вороном жеребце, который нетерпеливо переступал с ноги на ногу, выдыхая облачка пара. Для нее была оседлана изящная гнедая кобыла с умными, влажными глазами.
– Она спокойна, но с характером, – сказал он вместо приветствия, кивком указывая на лошадь. – Думаю, вы поладите.
Он не упомянул о ночном происшествии ни словом, ни взглядом. Он вел себя так, словно они были обычными гостями, наслаждающимися утром в поместье. Эта нормальность была оглушительной. Эвелина приняла поводья из рук конюха и легко вскочила в седло. Она выросла в седле, и знакомое чувство – живое тепло под коленями, скрип кожи, натянутые поводья в руках – придало ей уверенности.
Они ехали молча. Сначала шагом по парковой аллее, потом рысью через поля, покрытые серебристой росой. Тишину нарушали лишь фырканье лошадей да глухой стук копыт по мягкой земле. Эвелина ехала чуть позади, наблюдая за его спиной – прямой, сильной, напряженной. Он был частью этого пейзажа, этого мира, которым владел по праву рождения. А она была здесь чужой, самозванкой, призраком из другого мира, мира подвалов и заговоров.
– Вы боитесь высоты? – спросил он неожиданно, не оборачиваясь.
– Нет, – ответила она.
– А должны бы, – он натянул поводья, останавливая коня на вершине невысокого холма, с которого открывался вид на всю долину. – Именно на вершине проще всего потерять равновесие. Внизу, в грязи, все гораздо устойчивее.
Он смотрел не на нее, а вдаль, на аккуратные квадраты полей, на дымки, поднимавшиеся из труб фермерских домов. Его слова снова были двусмысленны, снова били мимо цели и попадали точно в нее.
Она подъехала и остановилась рядом.
– Возможно, те, кто внизу, просто не стремятся на вершину, милорд. Им достаточно твердой земли под ногами.
– О, они стремятся, – усмехнулся он, наконец повернувшись к ней. – Еще как. Только они хотят не взобраться на вершину, а сровнять ее с землей, чтобы все вокруг превратилось в одну большую, ровную грязь. Они называют это равенством.
В его голосе не было злости, лишь бесконечная, холодная усталость. Он говорил о ее товарищах, о ее деле. И она вдруг поняла, что он не просто повторяет заученные фразы своего класса. Он говорил о своем брате. О том юношеском идеализме, который привел к трагедии.
– А может, они просто хотят, чтобы с вершины перестали кидать камни в тех, кто внизу? – ее голос прозвучал резче, чем она хотела.
Он посмотрел на нее долгим, пронзительным взглядом.
– Камни кидают с обеих сторон, мадемуазель. Поверьте мне. Разница лишь в том, что те, кто наверху, делают это открыто. А те, кто внизу, – из-за угла, пряча лицо. Скажите, что из этого честнее?
Она не нашла ответа. Ветер трепал выбившиеся из-под шляпки пряди ее волос. На горизонте, там, где небо сливалось с землей, собиралась темная, лиловая туча. Она росла быстро, пожирая бледную синеву утра.
– Похоже, будет дождь, – сказал он так же спокойно. – Нужно возвращаться.
Но было уже поздно. Погода изменилась с пугающей, неестественной быстротой, словно кто-то невидимый повернул гигантский рубильник. Небо потемнело, стало цвета свежего синяка. Первый порыв ветра пронесся по холмам, пригибая траву к земле и принося с собой запах озона и мокрой пыли. Первая капля была аномалией, одинокой темной монетой, ударившей ее по перчатке. Следующая была уже залпом.
Ливень обрушился на них не стеной, а потопом, мгновенно промочив тонкое сукно амазонки до нитки. Лошади занервничали, запряли ушами. Мир сузился до серой, хлещущей пелены, в которой едва можно было различить силуэт в нескольких шагах от себя.
– Сюда! – крикнул Блэквуд, перекрывая шум дождя. – Я знаю место!
Он развернул коня и пустил его галопом вдоль кромки леса. Эвелина последовала за ним, низко пригибаясь к шее лошади. Холодные струи били в лицо, слепили глаза. Она не видела, куда они скачут, доверяясь лишь темной тени впереди.
Они вылетели на небольшую поляну, в центре которой стояло полуразрушенное строение из потемневшего от времени камня и дерева. Старый охотничий домик. Крыша из дранки прохудилась в нескольких местах, одно из окон было заколочено досками. Блэквуд спешился, быстро привязал поводья своего жеребца к кольцу у входа и подошел к ней, чтобы помочь спуститься.
Ее платье намокло и стало неимоверно тяжелым. Она почти соскользнула с седла ему на руки. На мгновение он удержал ее, и она почувствовала сквозь мокрую ткань его твердые, как сталь, мышцы и жар его тела. Это длилось не дольше удара сердца, но этого было достаточно, чтобы по ее телу прошла дрожь, не имеющая отношения к холоду. Он тут же отпустил ее, и они, привязав вторую лошадь, ввалились под защиту ветхой крыши.
Внутри было темно и пахло сыростью, гниющей древесиной и призрачным ароматом давно погасших костров. Единственная комната была почти пуста: грубый стол, две скамьи и огромный, заваленный мусором камин. Сквозь дыры в крыше сочилась вода, образуя на земляном полу темные, блестящие лужи. Дождь барабанил по крыше с яростью обезумевшего барабанщика. Они оказались в ловушке. Вдвоем. В маленьком, замкнутом пространстве, отрезанные от всего мира ревущей стихией.
Эвелина стояла, обхватив себя руками, пытаясь унять дрожь. Ее волосы растрепались, вода стекала по лицу и шее, холодными ручейками забираясь под воротник. Вся ее выверенная маска аристократки, вся ее броня из вежливости и манер – все было смыто этим безжалостным ливнем. Она стояла перед ним такая, какая есть: промокшая, замерзшая и, к своему ужасу, напуганная.
Он тоже был мокрым насквозь. Темные волосы прилипли ко лбу, делая черты его лица еще более резкими, хищными. Он снял свой пиджак и, выжав его, бросил на скамью. Под тонкой белой рубашкой, ставшей почти прозрачной, угадывались контуры широких плеч и мускулистой груди. Он подошел к камину и начал разгребать старую золу, отбрасывая в сторону гнилые ветки.
– Нужно развести огонь, иначе мы заработаем воспаление легких, – сказал он деловито, не глядя на нее.
Он нашел в углу несколько сухих поленьев, оставшихся с прошлого сезона, достал из кармана брюк непромокаемый портсигар, а из него – спички. Через несколько минут в камине заплясал слабый, нерешительный огонек. Он разгорался медленно, неохотно, чадя и шипя от влаги, но постепенно пламя окрепло, и по комнате поползло живое, спасительное тепло.
Эвелина подошла ближе к огню, протягивая к нему окоченевшие руки. Она смотрела на танец пламени, на то, как оно отбрасывает на стены их искаженные, пляшущие тени. Молчание между ними стало плотным, осязаемым, оно давило на уши сильнее, чем шум дождя.
– Кто вы, Эвелина Вольская? – спросил он тихо, но его голос прорезал это молчание, как нож.
Она вздрогнула. Он впервые назвал ее по имени, без «мадемуазель». И вопрос был задан не для того, чтобы услышать заученную легенду.
– Я та, кем вы меня считаете, милорд. Сирота с континента, ищущая покровительства.
– Нет, – он шагнул к ней, встал так близко, что она почувствовала запах мокрой шерсти и тепло его тела. Он был выше ее, и ей пришлось поднять голову, чтобы встретить его взгляд. В его глазах, темных, как ночное озеро, отражались отблески пламени. – Сирота с континента не играет в вист, как стратег, готовящийся к битве. Она не взламывает замки с точностью медвежатника. И в ее глазах нет столько… – он запнулся, подыскивая слово, – столько застарелой ярости. Я видел такую ярость раньше. В глазах людей, у которых отняли все. В глазах тех, кто готов сжечь весь мир, чтобы согреться у костра.
Ее сердце остановилось, а потом забилось с бешеной силой. Разоблачение. Вот оно. Не в кабинете, не на допросе, а здесь, в этом заброшенном домике, под шум дождя. Ее палец невольно дернулся к броши.
Он заметил это движение. Его взгляд скользнул к ее воротнику, и на губах появилась едва заметная, горькая усмешка.
– Не стоит. Это было бы слишком простым решением. И для вас, и для меня.
Он протянул руку и коснулся ее щеки. Его пальцы были холодными, но ее кожа под ними горела. Он не погладил, не приласкал. Он просто держал руку, словно изучая контуры ее лица, словно пытаясь понять, что скрывается под этой бледной, фарфоровой маской.
– Вы носите свою боль, как броню, – прошептал он. – Но я вижу трещины. Я знаю, каково это – жить с призраком, который ходит за тобой по пятам и шепчет о долге и мести. Я знаю, как этот шепот отравляет все.
Он говорил о себе. О своем брате. Но каждое слово было и о ней. Он видел ее насквозь. Он не осуждал. Он… понимал. И это понимание было страшнее любой угрозы. Оно разрушало стену ее ненависти, кирпичик за кирпичиком. Эта стена была всем, что у нее было, всем, что определяло ее жизнь. Без нее она была ничем. Пустотой.
Слезы, горячие и злые, выступили у нее на глазах. Слезы ярости на него – за то, что он посмел увидеть, и на себя – за эту минутную, непростительную слабость. Она попыталась отстраниться, но он не дал, его вторая рука легла ей на талию, притягивая ближе.
– Ненависть – это самый простой путь, – его голос стал глуше, – но она сжигает изнутри дотла. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что от тебя осталась только оболочка, наполненная пеплом.
И тогда он поцеловал ее.
Это не было похоже ни на один из тех поцелуев, о которых она читала в романах. Это не было нежностью или соблазнением. Это был акт отчаяния. Взрыв. Столкновение двух одиночеств, двух миров, обреченных на вечную войну. Его губы были жесткими, требовательными, они не просили, а брали. В его поцелуе была вся его боль, вся его горечь, все его подавленное годами желание найти хоть кого-то, кто поймет.
На мгновение Эвелина застыла, парализованная шоком. А потом она ответила. Ответила с той же яростью, с тем же отчаянием. Она вцепилась пальцами в его мокрую рубашку, словно утопающий, хватающийся за обломок мачты посреди шторма. Это был не поцелуй любви. Это был поцелуй ненависти, поцелуй узнавания, поцелуй прощания с той, кем она была до этой минуты. Она целовала своего врага, палача, цель своего задания. И в этом поцелуе она чувствовала не отвращение, а страшное, запретное родство. Китсбитовые пластины ее корсета впились в ребра, острое напоминание о клетке, в которой она жила, о роли, которую играла. Но сейчас, в его объятиях, эта клетка, казалось, вот-вот разлетится на куски.
Он оторвался от ее губ так же внезапно, как и начал. Они стояли, тяжело дыша, в нескольких дюймах друг от друга, в оглушительной тишине, нарушаемой лишь треском огня и затихающим шумом дождя за стеной. Шторм снаружи утихал. Шторм внутри только начинался.
Он смотрел на нее, и выражение его лица изменилось. В нем больше не было ни цинизма, ни усталости. Лишь растерянность, такая же глубокая, как и ее собственная. Он, гениальный стратег, мастер манипуляций, сделал ход, которого не было ни в одном его плане. Он потерял контроль.
Он отступил на шаг, потом еще на один, разрывая эту невыносимую близость. Он провел рукой по волосам, словно пытаясь привести в порядок не только их, но и свои мысли.
– Дождь почти кончился, – сказал он хрипло, глядя в сторону двери. – Нам пора.
Обратная дорога прошла в полном молчании. Неловком, тяжелом, наполненном тем, что было сказано, и тем, что было сделано. Мир вокруг казался другим. Цвета стали ярче, воздух – прозрачнее. Эвелина смотрела на мокрую, блестящую листву, на низкие, рваные облака, бегущие по небу, и чувствовала, что смотрит на них другими глазами.
Что-то в ней сломалось. Или, наоборот, родилось. Что-то terrifying и неконтролируемое. Ее ненависть, такая ясная, такая чистая, ее путеводная звезда в мире лжи, вдруг потускнела, замутненная воспоминанием о вкусе его губ, о тепле его рук, о боли в его глазах, так похожей на ее собственную. Фундамент, на котором она строила всю свою жизнь, дал трещину. Она ехала рядом с человеком, которого поклялась уничтожить, и единственное, о чем она могла думать, – это о том, что еще никогда в своей жизни она не чувствовала себя менее одинокой, чем в том заброшенном домике, в его объятиях.
Впервые с тех пор, как она дала свою клятву над холодной могилой, она боялась не того, что ее раскроют. Она боялась не человека, которого ее послали уничтожить. Она боялась той женщины, которой становилась рядом с ним.
Цена информации
Поездка обратно в Лондон была переходом через серую, безликую пустошь, лежавшую между двумя полями сражений. В грохоте колес, отбивавших по рельсам лихорадочный, рваный ритм, Эвелина слышала отголоски биения собственного сердца в охотничьем домике. Пейзаж за окном – мокрые поля, понурые деревья, редкие фермы с дымками, похожими на предсмертные вздохи, – сливался в единое смазанное полотно, лишенное цвета и смысла. Она смотрела на него, но видела лишь отражение своего лица в стекле: бледный овал, темные провалы глаз. Незнакомка.
Воспоминание о поцелуе жило в ней отдельной, паразитической жизнью. Оно не было мыслью, которую можно отогнать; оно было фантомным теплом на губах, призрачным давлением его пальцев на талии, эхом его голоса, говорившего о трещинах в броне. Он не просто поцеловал ее. Он дал имя тому, что она так тщательно скрывала даже от самой себя. Он увидел ее, и в этом акте узнавания было и спасение, и окончательное, безоговорочное поражение.
Всю дорогу она готовилась ко встрече с Казимиром. Она репетировала слова, выстраивала интонации, оттачивала выражение лица перед своим отражением в оконном стекле. Это было похоже на работу реставратора, пытающегося заделать пробоину в старинной картине. Она брала яркие, грубые краски своей легенды – ненависть, долг, месть – и пыталась замазать ими тончайший, едва проступивший на холсте новый образ, написанный дождем, огнем и отчаянием. Она должна была лгать. Но впервые в жизни эта ложь была направлена не вовне, а внутрь. Она должна была вырезать часть своей собственной памяти, ампутировать несколько часов, которые изменили все, и представить Казимиру аккуратно препарированный, стерильный отчет.
Условный знак ждал ее, засунутый за водосточную трубу в условленном переулке близ Флит-стрит. Сложенный вчетверо листок дешевой бумаги с одним-единственным словом: «Переплетчик». И время. До встречи оставался час. Этого было достаточно, чтобы сбросить одну кожу и облачиться в другую. В грязной уборной на задворках какой-то типографии она переоделась в серое, невзрачное платье, спрятав дорожный костюм в саквояж. Она убрала волосы под простой чепец, стерла с лица последние следы аристократической бледности, слегка испачкав щеку сажей. Трансформация была завершена. Элегантная гостья графа Стерлинга умерла, уступив место незаметной городской тени.