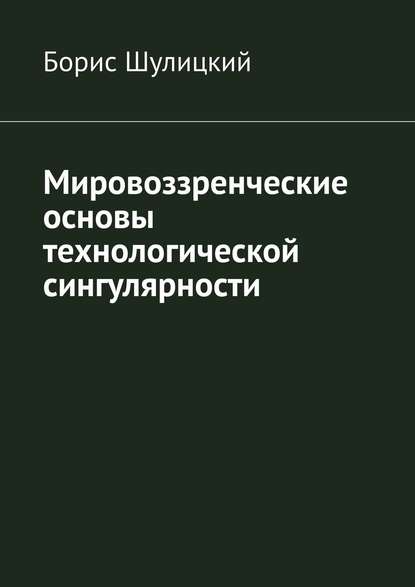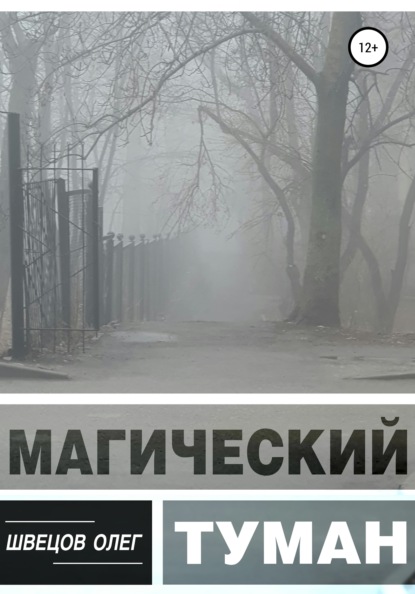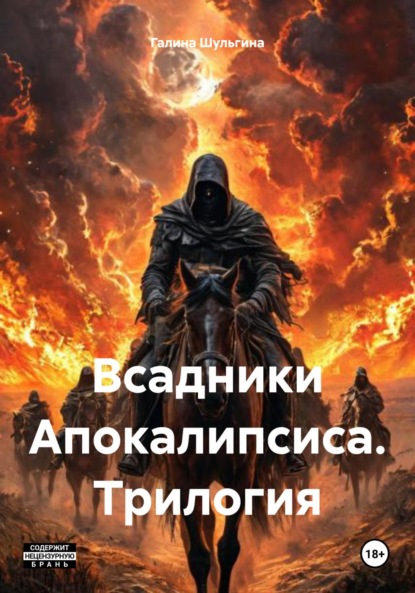Сердце эмигранта
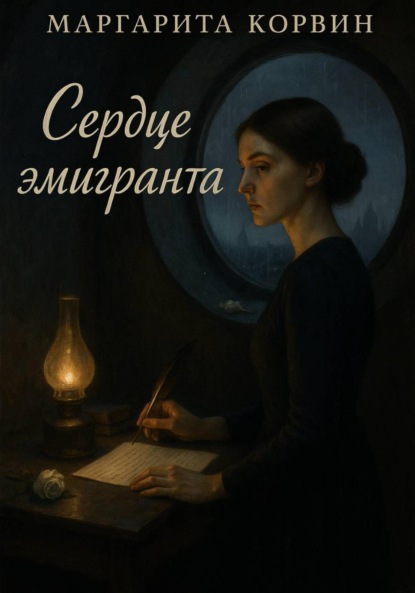
- -
- 100%
- +
«Нет», – коротко ответила она.
«Я так и думал, – он кивнул. – Здесь живут те, кто проиграл. Окончательно. А вы, значит, еще держитесь на плаву. Это хорошо. Это очень хорошо, Елена Андреевна. Я искренне за вас рад».
Эта фраза, «я искренне за вас рад», прозвучала как скрытая угроза. В его глазах не было и тени радости. Там был холодный, трезвый расчет. Он увидел в ней не бывшую знакомую, не сестру по несчастью. Он увидел ресурс. Возможность. Она не знала, чего он хочет, но всем своим существом чувствовала исходящую от него опасность. Этот человек был сломлен, но не раздавлен. Он был хищником, выброшенным из привычной среды обитания, голодным и злым, готовым вцепиться в любую добычу, что окажется слабее.
«Мне пора идти, – сказала она, делая шаг в сторону. – Меня ждут».
«Конечно, конечно, – он тут же сделал шаг ей наперерез, преграждая дорогу. Движение было плавным, почти изящным, но оттого не менее пугающим. – Всего один момент. Я ведь тоже, знаете ли, пытаюсь как-то устроиться. Кручусь. Старые связи, знаете ли… это единственный капитал, который у нас остался. Вы ведь не откажете в любезности старому знакомому?»
«Что вы хотите, Орлов?» – спросила она прямо, отбросив последние остатки вежливости.
Он улыбнулся, и в этой улыбке она увидела всю гниль его души. «Какой вы стали резкой, княжна. Жизнь в Париже закаляет. Я всего лишь хотел попросить ваш адрес. Мало ли, вдруг понадобится помощь. Или, наоборот, я смогу быть вам чем-то полезен. Мы, русские, должны держаться вместе».
Мысль о том, чтобы дать ему адрес дома де Валуа, была чудовищной. Она представила, как этот человек появляется на пороге их особняка, как он разговаривает с мсье Этьеном… Это было бы концом всего.
«У меня нет постоянного адреса, – солгала она, глядя ему в глаза. – Я часто меняю места».
Он слушал ее, слегка склонив голову набок, и его светлые глаза сузились. Он не поверил ни единому ее слову. Он знал, что она лжет.
«Какая жалость, – протянул он с деланым сожалением. – Но ничего. Париж, как оказалось, – большая деревня. Особенно для нас, соотечественников. Думаю, мы еще непременно встретимся. Не пропадайте, Елена Андреевна».
Он слегка склонил голову в подобии поклона, развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Его фигура в поношенном пальто быстро растворилась в толпе.
Елена стояла на месте еще несколько минут, не в силах сдвинуться. Ноги стали ватными, а сердце колотилось где-то в горле. Встреча с Орловым была подобна падению в ледяную воду. Хрупкая надежда, зародившаяся после письма Моро, тот призрачный, волнующий свет – все было затоплено мутной, холодной волной реальности. Игорь Воронов мог покорять издателей, но Елена Волкова была всего лишь беззащитной гувернанткой, которую на улице мог остановить любой призрак из прошлого.
И этот призрак был не просто воспоминанием. Он был живым, голодным и опасным. Она видела это в его глазах. Он не просто узнал ее. Он взвесил ее, оценил и, кажется, нашел ей применение. Фраза «Париж – большая деревня» звучала в ее ушах как приговор. Он найдет ее. Она не сомневалась в этом ни на секунду. И когда он ее найдет, он придет не с пустыми руками. Он придет за своей долей.
Она побрела в сторону метро, не разбирая дороги. Краски Монпарнаса поблекли. Шумные кафе, яркие витрины, оживленные толпы – все это превратилось в угрожающие, враждебные декорации. Город, который еще утром казался ей просто чужим, теперь стал ловушкой. Она думала, что ее главная опасность – это Жан-Люк Моро, человек, который мог невольно разоблачить ее обман из лучших побуждений. Теперь она поняла, как ошибалась. Настоящая угроза пришла оттуда, откуда она ее не ждала. Из их общего, проклятого прошлого. От человека, который знал, кем она была, и которому было абсолютно наплевать, кем она стала. Ему нужно было лишь то, что он мог с нее получить.
Вернувшись в свою каморку под крышей, она долго сидела в темноте, не зажигая свечи. Комната, ее единственное убежище, больше не казалась безопасной. Стены давили, а тишина звенела от невысказанных угроз. Она достала из-под матраса томик Блока. Письмо Моро, которое она отправила всего несколько часов назад, теперь казалось актом безумной, непростительной неосторожности. Она сама открыла дверь, за которой ее ждали. И теперь в эту дверь мог войти не только восторженный издатель, но и человек с мертвыми глазами и кривой усмешкой, несущий с собой весь смрад и всю грязь того мира, от которого она так отчаянно пыталась убежать. Тень прошлого упала на ее настоящее, и Елена с ужасом поняла, что эта тень была намного длиннее и темнее, чем она могла себе представить.
Требование на гербовой бумаге
Зима вцепилась в Париж костлявыми пальцами. Дни стали короткими и серыми, словно выцветшие дагерротипы. Для Елены время превратилось в вязкую, тягучую субстанцию, где каждая минута была наполнена ожиданием звука шагов на лестнице или незнакомого голоса в холле. Встреча с Орловым изменила саму природу ее страха. Раньше он был абстрактным, умозрительным – боязнь разоблачения перед Жан-Люком Моро, страх позора. Теперь он обрел плоть и кровь. У него было осунувшееся лицо, бегающие глаза и кривая усмешка. Он был угрозой не гипотетической, а реальной, хищной, выжидающей в лабиринте парижских улиц. Каждый раз, когда Батист докладывал о посетителе, сердце Елены совершало сухой, болезненный скачок, и она замирала, прислушиваясь, пока не убеждалась, что пришедший – всего лишь поставщик вин или гость мадам де Валуа. Она жила на натянутом нерве, и этот нерв звенел от любого прикосновения.
Ее ответ Игоря Воронова, полный туманных намеков на болезнь и затворничество, ушел в пустоту. Прошла неделя, другая. Молчание издательства было гнетущим, многозначительным. Возможно, ее отговорка показалась Моро неубедительной, обидной. Возможно, он, как человек дела, счел таинственного поэта-затворника слишком хлопотным активом и решил отказаться от публикации. Эта мысль приносила странное, уродливое облегчение, смешанное с горечью поражения. Игорь Воронов, едва родившись, мог умереть, так и не увидев света, и это спасло бы Елену от катастрофы. Она почти смирилась с этим. Почти убедила себя, что так будет лучше.
А затем, одним дождливым декабрьским утром, в дом доставили небольшой, но тяжелый пакет, обернутый в плотную коричневую бумагу. Батист, принимая его у посыльного, недоуменно вертел его в руках. Адресат был указан лаконично: «M. Igor Voronoff, aux bons soins de Mademoiselle Volkova», с припиской «лично в руки».
Елена, спускавшаяся в этот момент по парадной лестнице, увидела пакет и застыла на полпути. Кровь медленно отхлынула от ее щек. Мсье де Валуа, стоявший в холле и застегивавший перчатки, обернулся на ее заминку.
«Что это, Батист?» – спросил он, не обращаясь к Елене напрямую, словно она была предметом мебели.
«Посылка, мсье. На имя мадемуазель… вернее, для некоего господина Воронова, но через мадемуазель».
Взгляд банкира, холодный и острый, как скальпель, впился в Елену. Тот же самый вопрос, что и в прошлый раз, повис в воздухе, но теперь он был тяжелее, насыщеннее подозрением. Кто этот таинственный корреспондент, который шлет посылки гувернантке?
«Это… это книги, мсье, – нашлась Елена, и ее голос прозвучал на удивление ровно. – Из комитета помощи. Они присылают русскую литературу для беженцев, чтобы мы не забывали язык. Я попросила доставить их сюда».
Ложь была наспех слепленной, хрупкой, но мсье де Валуа, спешивший в свой банк, лишь презрительно скривил губы. Русские и их вечные комитеты. Он махнул рукой и вышел, хлопнув тяжелой дверью.
Елена почти бегом спустилась по оставшимся ступеням и забрала пакет у дворецкого, стараясь не встречаться с ним взглядом. Он был тяжелее, чем она думала. Она унесла его в свою мансарду, как вор уносит украденное. Там, заперев дверь, она дрожащими пальцами разорвала обертку.
Внутри лежали десять экземпляров небольшой книги в строгой серой обложке. Никаких иллюстраций, никакой мишуры. Только два слова, выведенные черными буквами: «Пепел и снег». А под ними, чуть мельче: «Игорь Воронов».
Она взяла один экземпляр в руки. Он был настоящим. Плотные, шероховатые страницы, пахнущие свежей типографской краской и клеем. Вес бумаги. Четкий, чуть вдавленный шрифт. Ее слова, ее боль, ее тайная жизнь обрели физическую форму. Они больше не были строчками, нацарапанными при свете свечи. Они стали объектом, вещью, которую можно было взять в руки, купить, прочитать. Доказательством. Уликой.
Она открыла книгу на случайной странице. «Мой город спит под саваном тумана, / И в окнах – лед, как бельма на глазах…» Она смотрела на знакомые строки, и они казались ей чужими, напечатанными, отделенными от нее непреодолимой преградой. Это написал некто Игорь Воронов. А она, Елена, была всего лишь хранителем его тайны. Чувство было непередаваемо сложным: острая, почти материнская гордость смешивалась с паническим ужасом. Она создала монстра, прекрасного и опасного, и выпустила его в мир.
Успех пришел не сразу. Он просачивался в дом де Валуа тонкими, едва заметными ручейками. Сначала – короткая заметка в «Le Figaro», которую Елена увидела, убирая газеты со стола в библиотеке. Анонимный рецензент отмечал «мрачную силу и подлинный трагизм» стихов неизвестного русского автора, называя сборник «поэтическим реквиемом по ушедшей империи». Затем, через неделю, в «Les Nouvelles littéraires» появилась развернутая статья известного критика Рене Лало. Он был более восторженным. «В парижской литературе, уставшей от игр дадаистов и самолюбования сюрреалистов, прозвучал новый, суровый голос. Голос с берегов Невы, закаленный огнем и льдом истории… Игорь Воронов – это не просто поэт. Это диагност, ставящий беспощадный диагноз нашему „потерянному поколению“, как русскому, так и французскому».
Елена читала эти строки, спрятавшись в своей каморке, и ее щеки горели. Голос с берегов Невы. Диагност. Каждое хвалебное слово было одновременно и бальзамом для ее истерзанного самолюбия, и новым витком затягивающейся петли. Они хвалили мужчину. Сильного, закаленного, прошедшего войну. Они создавали легенду, в которой ей, Елене, не было места.
Однажды вечером, прислуживая за ужином, она стала невольной свидетельницей разговора. Мсье де Валуа принимал у себя какого-то важного чиновника из министерства финансов. Речь зашла о модных новинках.
«Вы читали этого русского, Воронова? – спросил гость, промокая губы салфеткой. – Весь Париж о нем говорит. Невероятная тоска, конечно. Но какая мощь! Говорят, его издатель, молодой Моро, нашел настоящее сокровище».
Елена, стоявшая за спиной гостя с соусником в руках, замерла. Ее пальцы так сильно сжали холодный фарфор, что костяшки побелели.
Мсье де Валуа фыркнул. «Русская тоска. Лучший товар на экспорт после икры и большевиков. Не понимаю, что все в этом находят. Вечное самокопание и жалобы на судьбу. У меня в банке работает бывший князь Гагарин – двери открывает. Вот это я понимаю – настоящая драма, а не стишки».
Гость рассмеялся. «Вы, как всегда, прагматичны, Этьен. Но поверьте, в салоне у моей жены дамы зачитывают его стихи до слез. Особенно вот это: „Мы проиграли всё, кроме чести, / Но честь – единственный груз, / Что тянет на дно…“ Очень сильно».
Елена отступила в тень, к буфету, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Ее слова. Ее самые сокровенные, выстраданные слова, произнесенные чужим сытым голосом за богато накрытым столом. Их обсуждали, цитировали, ими восхищались. Игорь Воронов входил в парижские салоны, в то время как Елена Волкова подавала соус к рыбе. Пропасть между ней и ее творением разверзалась с каждым днем, грозя поглотить ее.
Даже мадам де Валуа, обычно погруженная в свои меланхоличные мечты, однажды спросила ее за уроком музыки для Софи: «Элен, вы ведь русская. Вы не слышали об этом поэте, Игоре Воронове? Говорят, он живет в Париже, но никто его не видел. Наверное, очень гордый и несчастный человек».
«Я… я что-то слышала, мадам», – пролепетала Елена, чувствуя, как краска заливает ей шею.
«Надо будет купить его книгу, – задумчиво произнесла Колетт де Валуа. – Мне кажется, только русские умеют так красиво страдать».
Книга лежала у Елены под матрасом, как бомба с часовым механизмом. Слава Игоря росла, и вместе с ней росла ее тревога. Орлов затих. Он не появлялся, не давал о себе знать, и это молчание было страшнее любых угроз. Она понимала: он ждет. Ждет, когда плод созреет, когда ее тайна станет более ценной, более дорогой. Он был опытным охотником, умеющим высидеть свою добычу.
А потом пришло второе письмо.
Оно появилось на том же серебряном подносе, но выглядело иначе. Не личное послание, а официальный документ. Плотный конверт из бумаги верже, а в левом верхнем углу – тисненый золотом герб издательства «Éditions Moreau». Это было письмо, которое не могло прийти из комитета помощи беженцам. Это было письмо от бизнеса, от власти, от успеха.
Сердце пропустило удар, а затем забилось тяжело и гулко, как церковный колокол, возвещающий о беде. Она забрала его под тем же пристальным взглядом мсье де Валуа. На этот раз он ничего не сказал, но в его глазах читалось ледяное любопытство. Эта русская гувернантка определенно вела какую-то свою, непонятную ему жизнь.
В своей комнате она вскрыла конверт с ощущением неотвратимости. Бумага была плотной, дорогой, с водяными знаками. Текст был напечатан на машинке, что придавало ему еще большую официальность и безжалостность. Только подпись внизу, широкая и энергичная, была выведена от руки: «Жан-Люк Моро».
«Дорогой и глубокоуважаемый господин Воронов!
Спешу поделиться с Вами новостями, которые, я уверен, Вас порадуют, сколь бы далеки Вы ни были от мирской суеты. Первый тираж Вашего сборника „Пепел и снег“ (1200 экземпляров) полностью распродан. Это неслыханный успех для поэтической книги, тем более для дебюта. Мы срочно допечатываем еще 3000. Ваше имя у всех на устах. Критики единодушны, читатели – в восторге. Вы не просто написали книгу – Вы создали событие. Мои самые смелые ожидания были превзойдены.
В связи с этим я вынужден вновь вернуться к вопросу, который я уже поднимал в своем первом письме. Вопросу нашей личной встречи. Поймите меня правильно, я безмерно уважаю Ваше желание оставаться в уединении. Однако успех налагает определенные обязательства, как на Вас, так и на меня, Вашего издателя.
Нам необходимо обсудить будущее. Речь идет не просто о переиздании. Мне поступают предложения о переводе Ваших стихов на английский и немецкий языки. Крупнейшие литературные журналы Европы просят у меня права на публикацию Ваших новых произведений. Мы стоим на пороге Вашего всеевропейского признания, господин Воронов!
Для заключения столь серьезных контрактов, для выработки долгосрочной стратегии нашего сотрудничества требуется Ваше личное присутствие. Мы должны составить и подписать полноценный договор, который защитит Ваши интересы и обеспечит Вам солидный и, что немаловажно, стабильный доход на годы вперед. Ваше здоровье, на которое Вы ссылались, я искренне надеюсь, пошло на поправку. Но даже если это не так, я готов пойти на любые уступки. Я приеду к Вам сам, в любое место, в любое время, с нотариусом, с врачом, если потребуется. Мы можем встретиться на нейтральной территории. Ваше инкогнито будет полностью сохранено. Но встреча должна состояться.
Молчание и переписка через третьих лиц больше не могут служить основой для дела такого масштаба. Речь идет о Вашем будущем, о судьбе Вашего таланта. Я взял на себя смелость подготовить проект долгосрочного контракта, и я должен передать его Вам лично.
Прошу Вас, не сочтите мою настойчивость дерзостью. Это голос не только издателя, но и человека, который верит в Ваш гений и считает своим долгом служить ему. Я буду ждать Вашего ответа с указанием даты и места нашей встречи в течение ближайшей недели.
Искренне преданный Вам и Вашему таланту,
Жан-Люк Моро».
Елена опустила письмо на колени. Комната медленно вращалась вокруг нее. Машинописные строчки плясали перед глазами, сливаясь в сплошную черную массу. Каждое слово в этом письме было выверено, вежливо, корректно. Но за этой вежливостью скрывалось стальное, непреклонное требование. Это был ультиматум, облеченный в изысканную форму.
«Молчание и переписка больше не могут служить основой…»
«Встреча должна состояться…»
«Я буду ждать… в течение ближайшей недели…»
Все. Игра окончена. Ее хрупкая стена из лжи о болезни и затворничестве рухнула, сметенная ураганом успеха. Он не поверил ей. Или поверил, но счел это препятствие незначительным по сравнению с открывающимися перспективами. Он был бизнесменом, триумфатором, который не собирался позволить капризам или болезни своего автора помешать делу. Он шел напролом, сметая все на своем пути, ведомый лучшими побуждениями. Он хотел осыпать ее золотом, увенчать лаврами, но для этого ему нужно было увидеть ее лицо.
Паника, которую она испытывала раньше, была детским страхом по сравнению с тем ледяным, всепоглощающим ужасом, что охватил ее сейчас. Она посмотрела на свои руки. Руки гувернантки, с мозолью от пера на среднем пальце. Руки женщины. Эти руки написали «Пепел и снег». Но человек, чье имя стояло на обложке, был мужчиной. Ветераном. Затворником.
Она встала и подошла к окну. Внизу, в саду, Софи играла с мячом под присмотром младшей гувернантки. Мирная, упорядоченная жизнь, которая была ее тюрьмой и ее спасением. Письмо в ее руке было ключом от этой тюрьмы, который вел не на свободу, а на эшафот.
Что ей делать? Исчезнуть? Написать, что Игорь Воронов умер? Но тогда права на книгу перейдут к его наследникам. А кто они? Она сама. И все начнется сначала. Признаться во всем? Отправить Моро письмо, где будет стоять подпись «Елена Волкова»? Она представила его лицо. Шок. Разочарование. Гнев. И, что хуже всего, – жалость. Он увидит в ней не гения, а хитрую обманщицу, несчастную женщину, решившуюся на аферу от отчаяния. Он никогда не простит ей обманутых надежд. Он никогда не увидит за Еленой Волковой того Игоря Воронова, в которого он так страстно поверил.
Нет, только не это. Ее гордость, единственное, что у нее осталось, не переживет такого унижения.
Оставался только один путь. Продолжать ложь. Но как? Как можно встретиться с ним? Ее маскарад был чисто литературным. Она не могла воплотить его в жизни.
Она снова и снова перечитывала письмо. «Я приеду к Вам сам… в любое место…» Эти слова, написанные из лучших побуждений, звучали как смертный приговор. Он был охотником, идущим по следу. А она была добычей, забившейся в угол, из которого не было выхода.
Неделя. У нее была всего неделя, чтобы придумать что-то. Семь дней, чтобы совершить невозможное. Семь дней, чтобы найти лицо для своего призрака. Ловушка захлопнулась. И ключ от нее был в руках человека, который восхищался ею больше всех на свете. Человека, который, сам того не зная, вел ее к неминуемой гибели. Сердце эмигрантки, познавшее миг триумфа, теперь стояло перед выбором между позором и забвением. И оба пути вели в пропасть.
Цена молчания
Неделя, отпущенная ей письмом Жан-Люка Моро, подходила к концу. Семь дней превратились в сто шестьдесят восемь часов, каждый из которых был отмерен глухим, нарастающим стуком в висках. Время утратило свою линейность, оно сгустилось вокруг нее, как парижский туман, липкий и непроницаемый. Она двигалась, говорила, выполняла свои обязанности в доме де Валуа с точностью хорошо смазанного механизма, но внутри, за решеткой ребер, металась в панике душа. Ее тело стало чужим, оболочкой, безупречно исполняющей роль мадемуазель Элен, в то время как ее истинное «я» было заперто в темной камере сознания, где на стене висели два экспоната: элегантное письмо на бумаге верже и ухмыляющееся лицо Дмитрия Орлова. Два палача, один из которых действовал из лучших побуждений, а другой – из худших. И было неясно, кто из них страшнее.
Каждый день она выводила Софи на прогулку в Люксембургский сад. Эта осенняя рутина, прежде приносившая ей подобие покоя, теперь превратилась в пытку. Идеально подстриженные газоны, симметрия аллей, строгие ряды каштанов – весь этот упорядоченный, рациональный мир французского парка казался ей насмешкой над хаосом, царившим в ее голове. Она шла по хрустящему гравию, и каждый шаг отдавался в ней мыслью: «Что делать? Что ему ответить?». Она составляла в уме десятки писем Моро. Письма-признания, письма-прощания, письма, полные новой, еще более изощренной лжи. Но чернила засыхали, не коснувшись бумаги. Любое слово было шагом в бездну.
В этот день небо было особенно низким, свинцовым, оно давило на город, делая краски тусклыми, а звуки – приглушенными. Софи, в своем синем пальто и берете, была единственным ярким пятном в этой серой акварели. Она гоняла по аллее большой красный обруч, и ее смех, звонкий и беззаботный, долетал до Елены, вызывая в ней острую, почти физическую боль. Боль от соприкосновения с миром, где еще существовала чистая, незамутненная радость.
Елена сидела на чугунной скамье у фонтана Медичи, наблюдая за девочкой и механически поправляя складки на своем платье. Она заставляла себя сосредоточиться на деталях: на том, как ветер треплет ленты на шляпке Софи, как темнеет от влаги камень старого фонтана, как медленно кружатся в зеленоватой воде последние палые листья. Но ее взгляд то и дело скользил по лицам редких прохожих, выискивая в толпе одну-единственную фигуру. Она ждала Орлова. Не то чтобы она хотела его видеть – нет, она молилась, чтобы никогда больше не встретить его, – но инстинкт, обостренный страхом, подсказывал ей, что он не исчез, что он где-то рядом, выжидает, как паук в углу паутины.
Он появился так, как появляются призраки – бесшумно и из ниоткуда. Она просто подняла глаза и увидела его. Он стоял в нескольких шагах от нее, у подножия статуи Полифема, и смотрел прямо на нее. На нем было то же поношенное пальто, но сегодня он был гладко выбрит, а в петлице красовалась увядшая гвоздика. Эта жалкая попытка сохранить фасон была страшнее любой небрежности. Он не приближался, просто стоял и смотрел, давая ей время осознать его присутствие. Это был жест хищника, демонстрирующего жертве свое превосходство.
Холод, не имеющий ничего общего с ноябрьской погодой, пополз вверх по ее позвоночнику, стягивая кожу на затылке. Она хотела вскочить, схватить Софи за руку и бежать прочь, не оглядываясь. Но ноги словно приросли к земле. Она сидела неподвижно, глядя на него в ответ, и ее лицо превратилось в бесстрастную маску. Единственным ее оружием была гордость, и она призвала на помощь все ее остатки.
Софи, не заметив ничего, подкатила свой обруч к скамейке. «Мадемуазель, смотрите, я научилась его крутить на одном месте!» – прокричала она.
Орлов улыбнулся. Улыбка обнажила неровные, пожелтевшие зубы. Затем он медленно, неторопливо подошел к ним. Он снял шляпу, и этот жест, отточенный годами в петербургских гостиных, выглядел здесь, в промозглом парижском саду, как цитата из давно забытой книги.
«Добрый день, Елена Андреевна, – его голос был тихим, почти вкрадчивым, но в нем слышались стальные нотки. – Какая очаровательная у вас воспитанница. Настоящий ангел».
Он говорил по-русски. Здесь, рядом с Софи, которая не понимала ни слова, но с любопытством смотрела на незнакомого мсье. Этот переход на родной язык был первым ходом в его игре. Он мгновенно создавал между ними тайный, интимный мир, отгороженный от всего остального. Мир, в котором они были сообщниками.
«Что вам нужно?» – спросила Елена так же тихо, не меняя выражения лица. Ее французский, на котором она думала и говорила последние годы, казался ей сейчас надежным щитом, но он заставил ее отбросить его.
«Право, какая неприветливость, – он покачал головой, но глаза его оставались холодными и внимательными. – Я просто гулял. Наслаждался, так сказать, видами Парижа. И случайно увидел вас. Я же говорил, что Париж – большая деревня. Нельзя ли мне присесть на минутку? Ноги, знаете ли, уже не те, что в восемнадцатом под Царицыном».
Он не дождался ответа и опустился на другой конец скамьи, соблюдая видимость приличий, но само его присутствие было нарушением всех мыслимых границ. Софи, видя, что мадемуазель разговаривает с господином, отошла в сторону и снова принялась за свой обруч, время от времени поглядывая на них.
«Ваши нынешние хозяева… они ведь французы?» – начал он издалека, глядя на темную воду фонтана.
Елена молчала. Любой ответ был бы ошибкой.
«Должно быть, славные люди, – продолжил он, не обращая внимания на ее молчание. – Старая французская буржуазия. Они ценят порядок, репутацию, хорошие манеры. Они не любят сюрпризов. Не любят, когда вещи оказываются не тем, чем кажутся. Например, когда их гувернантка, скромная мадемуазель Элен, на самом деле – княжна Волкова, дочь того самого Волкова, советника государя. Это ведь может создать… неловкость, не правда ли?»