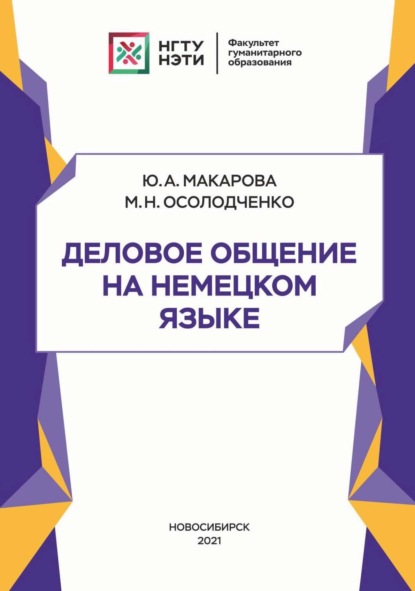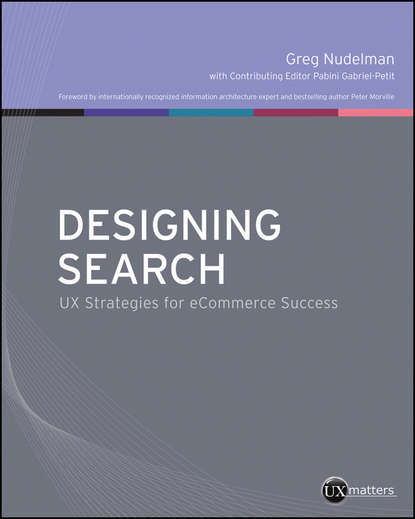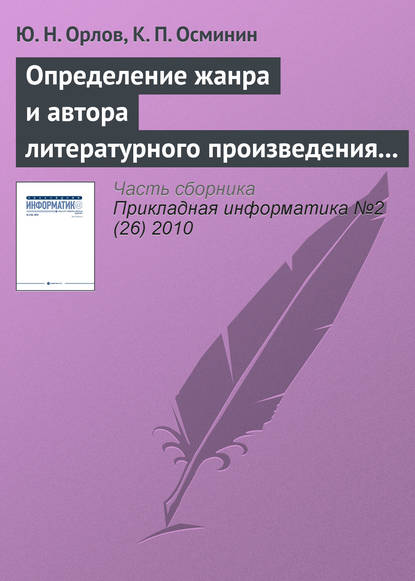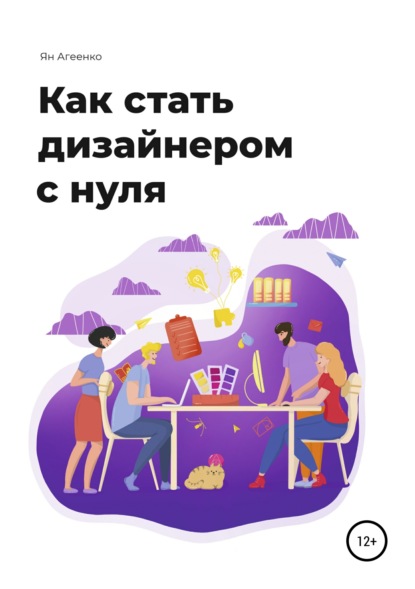Тени Белого бала

- -
- 100%
- +
Анастасия, сидевшая у постели Софьи и читавшая ей вполголоса сказки Перро, чтобы отвлечь от мучившего девочку кашля, замерла, подняв голову. Сердце сделало один тяжелый, глухой удар и замерло, прислушиваясь. Даже Софья, бледная и тоненькая, как восковая свеча, перестала кашлять и широко раскрыла глаза, полные испуга.
– Что это, Настя? – прошептала она.
Анастасия приложила палец к губам, но в этом уже не было нужды. Дверь в детскую распахнулась без стука, и на пороге появилась Полина. Ее всегда аккуратно уложенные волосы были растрепаны, платок сбился набок, а лицо, обычно румяное и спокойное, стало серым, как печная зола.
– Барышня… Княжна Анастасия Андреевна… – выдохнула она, хватаясь за сердце. – Беда.
Не дожидаясь вопросов, Анастасия выскочила в коридор. То, что она увидела, было похоже на сцену из дурного, лихорадочного сна. По широкой парадной лестнице, по которой еще вчера чинно спускались гости, теперь метались горничные и повара, таща узлы с пожитками. Старый камердинер Тихон, воплощение невозмутимости и порядка, стоял посреди холла, обхватив голову руками, и раскачивался из стороны в сторону. Из кабинета отца доносился звон разбитого стекла.
– Полина, что случилось? Говори же! – Анастасия схватила служанку за плечо, встряхнула.
– Оставляют… – пролепетала Полина, ее губы едва двигались. – Москву оставляют. Гонца прислали от градоначальника. Кутузов приказал. Француз под самыми стенами. Уходить велено всем, кто может. Немедля.
Слово «немедля» повисло в воздухе, холодное и острое, как игла. Оно пронзило ватную пелену неверия, заставив Анастасию очнуться. Она бросилась к кабинету отца. Дверь была распахнута настежь. Граф Ростопчин стоял спиной к ней, лицом к огромной карте на стене. Он не двигался. У его ног валялись осколки хрустального графина, и по дорогому персидскому ковру расползалось темное пятно воды, похожее на рану.
– Батюшка! – позвала она.
Он обернулся. Его лицо было страшно. Не искажено гневом или страхом, нет. Оно было пустым. Все чувства, вся жизнь словно ушли из него, оставив лишь дряблую, пергаментную маску. Глаза смотрели сквозь нее, сквозь стены дома, сквозь саму Москву, на что-то, видимое лишь ему одному.
– Все кончено, – проговорил он тихо, бесцветным голосом. – Я ставил на армию. А они… они просто отдали ее. Без боя. Сердце России. Отдали на поругание…
– Батюшка, нам нужно уезжать! Собираться! Софья…
Он словно не слышал. Он снова отвернулся к карте и провел по ней дрожащим пальцем, от Смоленска до Москвы.
– Такая короткая дорога, – прошептал он. – Такая короткая, страшная дорога…
Анастасия поняла. Помощи от него не будет. Он был здесь, но душа его уже блуждала где-то на руинах его мира. Крепость рухнула, и он остался под ее обломками. В этот миг в ней что-то оборвалось. Детство, с его верой в то, что взрослые все решат, что всегда есть надежная стена, за которой можно укрыться, – все это исчезло. Стена рассыпалась в прах. И она, девятнадцатилетняя девушка, осталась одна на ветру.
Она развернулась, и в ее голосе появилась твердость, которой она сама от себя не ожидала.
– Полина! Запрягать карету. И повозку для вещей. Бери самое нужное. Теплую одежду, еду, воду. Все серебро, все платья – оставь! Слышишь? Только то, что спасет нам жизнь. Тихон! Помоги батюшке. Одень его, выведи к карете. Остальным – кто хочет уходить с нами, пусть собираются быстро. Кто нет – воля ваша. Но через час мы уезжаем.
Люди, до этого метавшиеся в хаосе, замерли, услышав этот ясный, властный приказ. Он был как удар хлыста, приведший в чувство обезумевшую лошадь. Они посмотрели на молодую княжну с удивлением, а затем, кивнув, бросились исполнять.
Следующий час слился в один сплошной, лихорадочный кошмар. Анастасия металась по дому, который на глазах превращался из родного гнезда в разоряемый муравейник. Она сама одела бледную, дрожащую Софью, укутав ее в несколько шалей. Пока Полина сбивала в тюки одеяла и выгребала из кладовой остатки муки и солонины, Анастасия лихорадочно соображала, что еще нужно взять. Не драгоценности. Не фарфор. Она сняла со стены миниатюрный портрет матери в овальной рамке из слоновой кости. Сунула в саквояж шкатулку с материнскими письмами и тяжелый фамильный молитвенник в серебряном окладе. Вещи, которые были не ценой, а памятью. Ее взгляд упал на раскрытый том Руссо на столике. С горькой усмешкой она захлопнула его. Время романов действительно прошло.
Когда они вышли на крыльцо, Москва уже ревела. Это был не привычный городской гул, а именно рев – низкий, утробный, многоголосый вой агонии. Улицы, обычно широкие и просторные, превратились в узкие ущелья, забитые до отказа людскими телами, повозками, скотом. Все, что могло двигаться, двинулось на восток, к Владимирской и Рязанской заставам. Богатые кареты, запряженные четверками породистых лошадей, отчаянно сигналили, пытаясь пробиться сквозь море телег, груженных домашним скарбом. Крестьяне гнали мычащих коров, матери тащили за руки плачущих детей, купцы, бросив свои лавки, пытались вывезти хоть что-то на тачках. Воздух был тяжелым от пыли, криков, проклятий и того особого, кисловатого запаха, который источает испуганная толпа.
Их карета, в которую Тихон с трудом усадил безучастного ко всему графа и дрожащую Софью, медленно тронулась, врезаясь в этот поток. Анастасия с Полиной устроились на второй, более простой повозке, доверху нагруженной их скудными пожитками. Кучер, старый Ефим, с лицом, похожим на печеное яблоко, отчаянно ругался и хлестал лошадей, но они могли двигаться не быстрее пешехода.
– Держитесь, барышня, – прохрипел он, не оборачиваясь. – Главное – заставу проехать. А там уж просторней будет.
Но до заставы было еще далеко. Их путь был чередой бесконечных остановок. Человеческая река то замирала, превращаясь в стоячее болото, то вдруг делала судорожный рывок вперед. Анастасия вцепилась в край повозки, стараясь не потерять из виду темно-вишневый верх их кареты, маячивший впереди. Она видела, как в окошке мелькает бледное личико Софьи, и это было единственное, что удерживало ее от паники. Она должна быть рядом. Она обещала себе это.
Хаос нарастал. Люди становились злее, отчаяннее. Анастасия видела, как какой-то мещанин выхватил нож, когда его телегу попытались оттеснить с дороги. Видела, как изящная коляска с гербом на дверце опрокинулась в кювет, и из нее, как горох из стручка, посыпались нарядные дамы в шелках, на которых никто не обращал внимания. Законы, приличия, сословия – все это было смыто волной всеобщего бегства. Остался лишь один закон – закон выживания.
Они уже приближались к Дорогомиловской заставе, когда случилось то, чего Анастасия боялась больше всего. Впереди, в самом узком месте, где дорога сворачивала к мосту, столкнулись две груженые фуры. Путь оказался заблокирован. Толпа, напиравшая сзади, взревела от ярости и нетерпения. Началась давка. Лошади испуганно ржали и бились, люди кричали. Их повозку с силой прижало к стене какого-то дома. Анастасия услышала резкий, сухой треск.
– Ось! – выкрикнул Ефим. – Ось сломалась, проклятая!
Повозка накренилась. Один из тюков сполз на землю. Лошади, почувствовав свободу, дернулись вперед. Полина вскрикнула. Анастасия видела, как их карету, подхваченную общим потоком, который начал обтекать затор по обочине, медленно уносит вперед. Она вскочила на ноги, пытаясь разглядеть ее сквозь мельтешение голов, повозок, лошадиных морд.
– Батюшка! Соня! – закричала она, но ее голос утонул в общем гвалте.
Карета на мгновение показалась снова, уже дальше, ее вишневый верх был как капля крови в мутном потоке. Потом она скрылась за поворотом. Исчезла.
– Ефим, трогай! Скорее! – в отчаянии крикнула Анастасия кучеру.
– Не могу, барышня! Колесо не крутится! Приехали!
Поток несся мимо них, равнодушный, безжалостный. Люди обтекали их сломанную повозку, как река обтекает камень, бросая на них злобные, торопливые взгляды. Никто не остановился, никто не предложил помощь. Они остались одни, выброшенные на обочину этого апокалиптического исхода.
Время потеряло свой счет. Может, прошел час, а может, всего несколько минут, прежде чем людской поток начал редеть. Шум постепенно стихал, сменяясь странной, звенящей тишиной, нарушаемой лишь скрипом редких, отставших телег и далеким, тоскливым собачьим лаем. Улица опустела. Она была завалена брошенными вещами: разбитой посудой, детскими игрушками, иконами, чьей-то одинокой бархатной туфелькой. Все это выглядело как следы внезапного, таинственного исчезновения целого народа.
Анастасия сидела на краю сломанной повозки, обхватив колени. Внутри у нее была пустота. Не страх, не отчаяние – просто холодная, звенящая пустота. Она смотрела на дорогу, уходящую за поворот, туда, где скрылась карета, и все еще не могла поверить в случившееся.
Полина подошла и осторожно коснулась ее плеча.
– Что ж делать-то теперь, княжна? – ее голос был тихим и осипшим.
Анастасия подняла на нее глаза. Взгляд служанки был испуганным, но в нем была и решимость. Она ждала приказа. И Анастасия поняла, что сидеть и ждать бессмысленно. Никто не вернется. В этом хаосе их просто не найдут. Двигаться вперед пешком, без еды, без защиты, по забитым беженцами дорогам – безумие.
И тогда в ее голове родилось решение. Единственное возможное. Страшное, нелогичное, идущее вразрез со всем, что происходило вокруг.
– Мы возвращаемся, – сказала она твердо.
Полина отшатнулась.
– Куда, барышня? В город? Да ведь там же… француз!
– Они еще не вошли. А если и войдут, мы спрячемся. Это наш дом. Другого у нас нет. Мы не можем идти в никуда. Мы вернемся и будем ждать.
Это было больше чем решение. Это был акт отчаяния, смешанный с упрямством. Весь мир бежал из Москвы, а они пойдут обратно, против течения, в самое сердце обреченного города.
Они сняли с повозки один узел, самый легкий, с остатками еды и парой теплых шалей. Все остальное бросили. Ефим, сняв с лошадей упряжь, понуро повел их в сторону какой-то подворотни. «Хоть животины уцелеют, может», – пробормотал он на прощание и исчез.
И они пошли. Две одинокие женские фигуры на опустевшей, изувеченной улице. Их шаги гулко отдавались в тишине. Город, который они увидели, был уже не тем, что они покинули несколько часов назад. Он был мертв. Двери домов и лавок были распахнуты настежь, словно в немом крике. Ветер гонял по мостовой обрывки бумаг и перья из распоротых перин. Из какой-то подворотни на них с лаем выскочила стая бездомных собак с горящими голодными глазами. Они попятились, и собаки, не решаясь напасть, проводили их злобным рычанием.
Чем ближе они подходили к центру, тем тише и страшнее становилось. Тишина была неестественной. Москва никогда не молчала. Даже глубокой ночью в ней всегда жила тысяча звуков. Теперь же она была безмолвна, как гробница. Анастасия видела знакомые особняки, церкви, переулки, но не узнавала их. Лишенные людей, они превратились в пустые декорации. Призрачный город, населенный лишь тенями и эхом недавней жизни.
Когда они свернули на свой Арбат, сердце Анастасии сжалось еще сильнее. Улица, всегда такая оживленная, была пуста. Лишь на углу сидел какой-то нищий в лохмотьях и монотонно что-то бормотал себе под нос, раскачиваясь. Он был похож на единственного уцелевшего жреца в разрушенном храме.
Вот и их дом. Чугунные ворота, обычно запертые наглухо, были приоткрыты. Одна створка неестественно провисла. Они вошли во двор. Парадная дверь, высокая, дубовая, обитая медью, была распахнута. Это было последнее, самое страшное нарушение всех законов их мира. Дом с открытой дверью – это не дом, а рана.
Они вошли в холл, и их встретил холод и полумрак. Внутри был тот же беспорядок, что и снаружи. Разбросанные на полу вещи, которые не смогли или не успели забрать слуги. Опрокинутый стул. Чей-то забытый на столике женский ридикюль. Воздух был неподвижным, пахло пылью и воском от погасших свечей. Тишина здесь была еще глубже, гуще, чем на улице. Она давила на уши, заполняла собой все пространство.
Анастасия медленно прошла в гостиную. Солнечный свет, пробиваясь сквозь щели в закрытых ставнях, чертил на полу длинные светлые полосы, в которых кружились пылинки. Все было на своих местах: мебель, покрытая чехлами, портреты предков на стенах, смотревшие на нее со строгим укором, рояль с закрытой крышкой. Но это была видимость жизни. На самом деле жизнь ушла отсюда вместе с людьми. Осталась лишь оболочка.
Она подошла к большому зеркалу и посмотрела на свое отражение. На нее смотрела незнакомая девушка с бледным, испачканным пылью лицом, с потемневшими от ужаса глазами, в простом дорожном платье. Всего несколько часов назад она была княжной Ростопчиной, хозяйкой этого дома, частью большого и сильного рода. Теперь она была никем. Одинокой песчинкой в вихре истории, запертой в пустом доме, в мертвом городе, на пороге которого уже стоял враг.
Дом перестал быть крепостью. Он стал западней.
Орел на кремлевских стенах
Первые сутки в пустом доме прошли в тишине, но это была не та тишина, что приносит покой. Эта тишина имела плотность и вкус – вкус пыли, оседавшей на бархате мебели, и привкус металла во рту от непроходящего страха. Она была живой, эта тишина; она дышала в пустых коридорах, шуршала забытой на полу газетой, скрипела половицей на втором этаже, заставляя замирать и вслушиваться в гул собственной крови в ушах. Анастасия и Полина забаррикадировали парадную дверь тяжелым комодом из карельской березы и задвинули все щеколды на черном входе. Ставни на окнах первого этажа были наглухо закрыты, превратив некогда светлые комнаты в сумрачные, гулкие пещеры, где единственным источником света были тонкие, как лезвия, полосы дня, пробивавшиеся сквозь щели.
Они устроили себе убежище в маленькой комнате Полины под самой крышей, с одним окном, выходившим во внутренний двор. Оттуда, если прижаться щекой к прохладному стеклу, был виден кусочек неба и верхушки старых лип в саду. В этой комнате они ели свой скудный запас хлеба и вяленого мяса, пили воду из ведра, которое Полина с риском для жизни наполнила ночью у колодца, и почти не разговаривали. Слова казались неуместными, громкими, они нарушали хрупкое оцепенение, которое обе женщины приняли за подобие безопасности. Анастасия часами сидела на жестком сундуке, обхватив колени, и смотрела в одну точку. Ее мысли не текли, а ворочались, как тяжелые камни. Она пыталась представить себе, где сейчас карета, где отец и Софья, но воображение рисовало лишь хаос дороги, опрокинутые повозки и растерянные лица. Эта неизвестность была пыткой, куда более изощренной, чем прямая угроза.
На второй день звуки вернулись. Сначала это был далекий, низкий гул, похожий на рокот приближающейся грозы, от которого едва заметно дрожали стекла. Потом гул распался на отдельные составляющие: мерный, тяжелый топот тысяч ног по булыжнику, скрип колес артиллерийских лафетов и резкие, гортанные выкрики команд на чужом языке. Французы входили в город. Анастасия припала к окну, стараясь разглядеть что-нибудь через листву. Она не видела солдат, но видела, как по небу, отражаясь от низких облаков, поползли странные тени. И слышала. Чужая речь лилась по улицам Москвы, заполняя пустоту, утверждая свое право на этот город. Она знала этот язык с детства, он был языком ее первых книг, ее гувернанток, языком элегантных бесед в гостиных. Теперь он звучал иначе – грубо, властно, как лязг засова в тюремной камере.
Полина сидела в углу, перебирая в руках маленький медный крестик. Ее лицо окаменело.
– Богородица, Заступница… – шептала она, и ее шепот был единственным русским звуком в этом новом, захваченном мире.
К вечеру город изменился окончательно. Упорядоченный шум марширующих колонн сменился разноголосым гвалтом. Слышался пьяный смех, женские визги, звон разбитого стекла. Несколько раз совсем рядом, на соседней улице, раздавались одиночные выстрелы – короткие, сухие хлопки, после которых наступала особенно жуткая тишина. Порядок, с которым армия входила в город, рассыпался, уступая место хаосу грабежа. Великая Армия, освободительница Европы, превращалась в стаю голодных волков, дорвавшихся до беззащитной добычи.
Анастасия заставила себя отойти от окна. Она понимала, что их убежище ненадёжно. Их дом, большой, богатый, был слишком соблазнительной целью. Рано или поздно они придут и сюда. Она оглядела маленькую каморку. Здесь негде было спрятаться.
– Полина, – ее голос был хриплым, непослушным. – Мы спустимся вниз. В винный погреб.
Вход в погреб был в дальнем конце кухни, замаскированный тяжелым дубовым люком, который обычно прикрывал старый ковер. Спустившись по скользким каменным ступеням, они оказались в царстве холода и темноты. Воздух был сырым, пах винной плесенью, землей и временем. Они зажгли огарок свечи, и его слабое пламя выхватило из мрака длинные стеллажи с пыльными бутылками, похожими на застывших солдат, и несколько пустых бочек в углу.
– Сюда, – прошептала Анастасия, указывая на пространство за бочками. – Если они спустятся, может, не заметят сразу.
Они забились в самый темный угол, укрывшись старой мешковиной. Свечу пришлось погасить. Мрак обступил их, плотный и почти осязаемый. Теперь единственным окном в мир были звуки, доносившиеся сверху. И они не заставили себя ждать.
Сначала послышался оглушительный треск – выламывали дверь черного хода. Затем – топот нескольких пар тяжелых сапог по плитам кухни. Грубые, торжествующие голоса. Они говорили на смеси французского с какими-то другими, незнакомыми Анастасии наречиями. Послышался грохот – это опрокинули стол. Звон разбитой посуды. Кто-то нашел остатки провизии, и раздались довольные возгласы. Их шаги разнеслись по всему первому этажу. Анастасия слышала, как они ходят по гостиной, по кабинету отца. Глухой удар – это, наверное, взломали ящик бюро. Протяжный скрип – сорвали со стены картину. Дом стонал под их ногами, как живое существо под ножом мясника.
Анастасия сидела, не дыша, вцепившись в руку Полины. Ее собственное тело казалось чужим, деревянным. Она была не человеком, а одним сплошным, напряженным слухом. Она различала все: как кто-то пытается подобрать мелодию на расстроенном рояле, как другой с руганью сдирает с окон тяжелые шторы. Это было не просто ограбление. Это было осквернение. Они не просто забирали вещи – они уничтожали ее мир, ее прошлое, топча его грязными сапогами.
Потом шаги послышались на лестнице, ведущей наверх.
– Эй, Пьер! Посмотри здесь! Может, девки спрятались! – крикнул кто-то снизу.
Раздался пьяный хохот.
Сердце Анастасии пропустило удар и забилось часто-часто, как крылья пойманной птицы. Они идут наверх. Прямо над их головами загремели сапоги. Она слышала, как они с треском распахивают двери в спальни, в ее комнату, в детскую Софьи. Грохот, ругань. Они искали не только ценности. Они искали живых.
Внезапно в кухне над их головами снова раздались голоса. Кто-то споткнулся обо что-то на полу.
– Qu'est-ce que c'est? – спросил один голос. – Что это?
– Un tapis. Ковер, – ответил другой.
Пауза. Анастасия почувствовала, как ледяная струйка пота потекла у нее по спине. Она поняла, что произошло. В спешке они забыли прикрыть люк ковром.
– Посвети-ка сюда. Под ним что-то есть.
Раздался скрип сдвигаемого в сторону ковра, затем глухой удар – тяжелый люк откинули. В прямоугольнике над их головами появился мутный свет фонаря.
– Une cave! Погреб! А ну, парни, там наверняка лучшее винцо!
Полина рядом тихо всхлипнула и зажала рот рукой. Анастасия зажмурилась, прижимаясь к холодной, влажной стене. Бежать было некуда. Кричать – бессмысленно. Конец.
Первый солдат спрыгнул вниз, тяжело приземлившись на каменный пол. Свет фонаря метнулся по стенам, по бутылкам. За ним спустился второй, пониже ростом, с осповатым лицом и жадными, бегающими глазками. Третий остался наверху, у люка.
– О-ля-ля! Смотри, Жак! Тут хватит на всю роту! – сказал первый, высокий, с рыжими усами, и схватил со стеллажа бутылку. Он сноровисто отбил горлышко о край полки и жадно припал к осколкам, проливая темное вино себе на грязный мундир.
Второй, Жак, не спешил к вину. Его взгляд, цепкий и хищный, шарил по темным углам. Фонарь в его руке дрожал, бросая по стенам пляшущие, уродливые тени. И луч света замер, наткнувшись на их укрытие за бочками.
– А это еще что? – проговорил он медленно, с неприятной усмешкой. – Посмотрите-ка, Франсуа. Кажется, мы нашли не только вино.
Он сделал шаг к ним, поднимая фонарь выше. Свет ударил Анастасии в глаза, ослепляя. Она инстинктивно заслонилась рукой.
– Вылезайте, крыски, – прошипел Жак. – Не бойтесь, мы не кусаемся. Если нас хорошо попросить.
Франсуа, оторвавшись от бутылки, обернулся. Увидев женщин, он издал радостный, животный клич.
– Magnifique! Две! И одна совсем молоденькая! Сегодня наш счастливый день!
Полина затряслась всем телом, бормоча бессвязные молитвы. Анастасия же, наоборот, застыла. Страх достиг той высшей точки, за которой начинается странное, холодное спокойствие. Она медленно поднялась на ноги, отстраняя от себя дрожащую Полину, и вышла из-за бочек. Она не опустила глаза. Она смотрела прямо в лицо Жаку, в его маленькие, поросячьи глазки, и в ее взгляде не было мольбы. Только ледяное презрение.
Эта немая дуэль взглядов, возможно, спасла ее на несколько секунд. Солдат был озадачен. Он ожидал слез, криков, но не этой гордой, несгибаемой позы.
– А, аристократка! – протянул он, распознав в ее осанке и чертах лица породу. – Тем лучше. Они обычно сговорчивее.
Он шагнул к ней и протянул свою грязную, покрытую ссадинами руку, чтобы схватить ее за плечо. Анастасия отшатнулась, но спиной уперлась в холодный камень стены.
И в этот самый момент сверху, из люка, раздался спокойный, но властный голос:
– Qu'est-ce qui se passe ici? Что здесь происходит?
Все трое вздрогнули и подняли головы. В проеме люка стояла фигура офицера. Свет с кухни падал на него сзади, превращая его в темный силуэт, но были видны золотые эполеты на плечах и точеная линия профиля.
– Mon capitaine! – вытянулся в струнку Франсуа, едва не выронив бутылку. – Мы… мы нашли немного провизии. И…
– И что? – Голос офицера был ровным, без тени гнева, но в этой ровности чувствовалась сталь. – Доложите, сержант.
Жак, опустив фонарь, промямлил:
– Нашли двух женщин, капитан. Прятались здесь.
Офицер помолчал мгновение, затем легко, одним движением, спрыгнул в погреб. Он был высок, строен, и даже его походный мундир, пыльный и потертый, сидел на нем с какой-то врожденной элегантностью. Он сделал несколько шагов вперед, и свет от фонаря упал на его лицо.
Анастасия замерла. Она ожидала увидеть жестокость, триумф победителя, пьяный блеск в глазах. Но ничего этого не было. Лицо офицера было бледным, почти изможденным. Под темными глазами залегли глубокие тени. А в самих глазах, умных и проницательных, не было ни злобы, ни радости завоевателя. В них была лишь бездонная, вселенская усталость. Усталость человека, который видел слишком много смертей, слишком много грязи, слишком много бессмысленности. Он смотрел не на нее, а как будто сквозь нее, и его взгляд был взглядом врача, констатирующего неизлечимую болезнь мира.
– Оставьте их, – сказал он тихо, но так, что каждое слово прозвучало как приказ.
– Но, капитан… – начал было Жак, в его голосе прозвучало возмущение. – Это же просто русские… добыча…
Офицер медленно повернул к нему голову. Он не повысил голоса, не сделал ни одного резкого движения. Он просто посмотрел на сержанта. И в этом взгляде было что-то такое, отчего тот попятился, ссутулился и замолчал.
– Я сказал, оставьте их, – повторил офицер. – Вы грабите дом. Этого достаточно. Солдаты Великой Армии не насильники. Или я ошибаюсь, сержант Дюбуа?
Последняя фраза прозвучала с едва уловимой, ледяной иронией. Сержант, которого он назвал Дюбуа, покраснел до корней волос.
– Никак нет, мой капитан.
– Тогда вы оба – наверх. И заберите с собой того, кто стоит на карауле. Обыщите дом и ждите меня на улице. Живо.
Солдаты, не смея ослушаться, бросили на Анастасию злобные, разочарованные взгляды и, подсаживая друг друга, выбрались из погреба. Их тяжелые шаги быстро затихли в отдалении.
В погребе остались только они трое. Анастасия, съежившаяся в углу Полина и этот странный, усталый офицер. Он не смотрел на них. Он подошел к стеллажу, взял одну из уцелевших бутылок, повертел ее в руках, рассматривая этикетку. Его движения были неторопливыми, почти рассеянными.