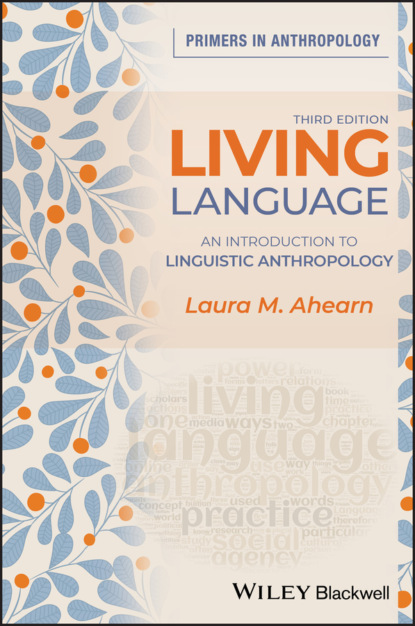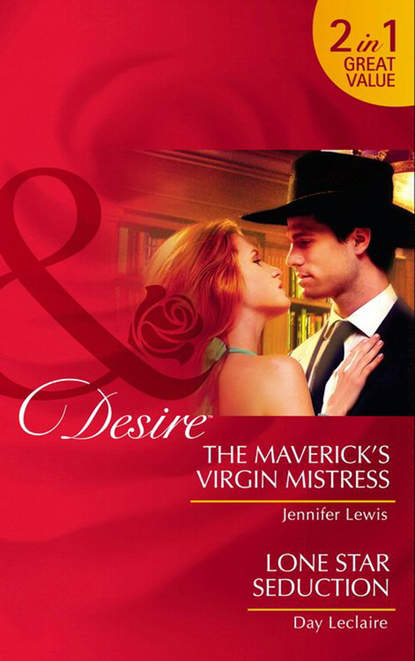Венецианская маска

- -
- 100%
- +

Холст и тень
Последний мазок лег на холст так же тихо, как падает на воду венецианский туман. Кисть в руке Алессии замерла, кончик ее, пропитанный свинцовыми белилами, повис над бликом на холеной щеке сенатора Градениго. Готово. Она отступила на шаг, и ее мужской камзол, грубый и мешковатый, натянулся на плечах. Взгляд художника, холодный и оценивающий, скользнул по полотну. Игра света и тени, кьяроскуро, которому ее учил отец, удалась на славу. Свет, падающий из высокого окна мастерской, выхватывал из полумрака массивный подбородок, самодовольно изогнутые губы и тяжелый, усыпанный перстнями кулак, лежащий на бархате кресла. А в тени оставалось все остальное: пустота в глазах, подрагивающая жилка на виске, страх старения, который Алессия уловила в первую же минуту их знакомства и заботливо спрятала в глубине зрачков на портрете. Сенатор увидит лишь свое величие. Только она, художник, знала, сколько трусости и лжи укрыто под слоями лака и лести.
Мастерская пахла ее миром: терпкий дух льняного масла, скипидара и древесного угля смешивался с сырым запахом канала, что лениво плескался под самыми окнами. Здесь, среди мольбертов, натянутых холстов и банок с растертыми пигментами, она была не Алессией Беллини, дочерью разорившегося живописца, а маэстро Лоренцо Беллини, восходящей звездой венецианской живописи. Имя брата стало ее лучшей маской, прочнее и надежнее любой карнавальной.
«Превосходно, маэстро, превосходно!» – пророкотал сенатор, поднимаясь с кресла. Его голос был таким же маслянистым, как краски на ее палитре. «Вы ухватили саму суть моей натуры. Сила. Власть. Ответственность».
Алессия едва заметно склонила голову, пряча усмешку. Она ухватила суть его кошелька, не более. «Вы были превосходным натурщиком, ваша светлость. Терпеливым и полным достоинства». Ложь давалась ей так же легко, как точный мазок. Ее голос, от природы невысокий, она научилась делать чуть более грубым, отрывистым.
Сенатор удовлетворенно хмыкнул, бросив на стол мешочек с монетами, звякнувший приглушенно и весомо. Он прошелся по мастерской, заложив руки за спину, снисходительно оглядывая эскизы на стенах. Его взгляд был взглядом покупателя на невольничьем рынке. «Талант, несомненно, у вас есть, Беллини. Главное – не возгордитесь. Венеция не любит гордецов. Она любит тех, кто знает свое место».
Слова повисли в воздухе, густые и липкие, как смола. Алессия почувствовала, как под грубой тканью рубашки и тугой повязкой, утягивающей грудь, по спине пробежал холодок. Он говорил не о ней, не о Лоренцо. Он говорил о себе и о таких, как он. О тех, кто владел этим городом, пронизанным каналами, словно венами, по которым текла не вода, а золото и интриги.
Когда тяжелая дверь за сенатором наконец закрылась, Алессия несколько мгновений стояла неподвижно, прислушиваясь к удаляющимся шагам. А потом медленно, с наслаждением выдохнула. Она подошла к окну и распахнула его настежь. В мастерскую ворвался влажный воздух, принеся с собой крики торговцев с соседней улочки и далекий звон церковного колокола. Она стянула с головы темный парик, и густые каштановые волосы волной упали ей на плечи. Затем, расстегнув камзол и рубашку, она развязала ленты тугой повязки. Глубокий, болезненно-сладкий вдох наполнил легкие. Свобода. Хрупкая, временная, украденная у мира свобода.
Она провела пальцами по своему отражению в тусклом, покрытом пятнами зеркале. Из полумрака на нее смотрела бледная девушка с огромными глазами цвета горького шоколада и упрямой линией рта. Взгляд был усталый, но не сломленный. Взгляд художника, привыкшего видеть больше, чем показывают. Иногда ей казалось, что Лоренцо, ее брат-близнец, украл не только ее имя, но и ее жизнь, оставив ей лишь этот сумрачный мир холстов и теней. Но потом она брала в руки кисть, и горечь отступала. Кисть не лгала. Холст принимал ее такой, какая она есть.
Она пересчитала монеты. Хватит, чтобы заплатить за аренду, купить новых пигментов у старика Маттео и отдать часть долга Лоренцо. Вечный долг Лоренцо. Он был лицом и голосом их предприятия, обаятельный повеса, умеющий заводить нужные знакомства в тавернах и на приемах, куда ей, женщине, вход был заказан. А она была руками и глазами. Неравный союз, скрепленный отчаянием и общей кровью.
Дверь распахнулась без стука, с грохотом ударившись о стену. На пороге стоял он, ее второе «я», ее проклятие и спасение. Лоренцо Беллини, настоящий. Он был похож на нее, как отражение в кривом зеркале – те же черты, но смягченные вином и праздностью. В его глазах не было ее сосредоточенной глубины, лишь веселое, беспокойное пламя. Он был одет с показной элегантностью: кружевные манжеты, хоть и несвежие, камзол изрядно потертого, но все еще яркого синего бархата. В руке он сжимал тяжелый кожаный кошель.
«Алессия! Сестра! Боги сегодня улыбаются нам!» – он пересек мастерскую в два шага и бросил кошель на стол. Золотые дукаты высыпались из него с тяжелым, сытым звоном, покатившись по деревянной поверхности. Их было так много, что у Алессии перехватило дыхание. Это была не плата за портрет. Это было целое состояние.
Она поспешно накинула мужской халат, инстинктивно запахиваясь, словно его взгляд мог выдать ее тайну даже ему, ее соучастнику. «Лоренцо, что это? Ты снова играл? Ты ограбил кого-то?»
Он рассмеялся, откидывая со лба светлую прядь. «Лучше, сестра! Гораздо лучше! Это аванс».
Алессия нахмурилась, подбирая одну из монет. Тяжелая, холодная, с отчеканенным профилем дожа. «Аванс? За что? За портрет Папы Римского?»
«Почти, – глаза Лоренцо блестели азартом. – Заказчик… о, ты не поверишь! Это не просто какой-то толстосумный торговец или престарелый сенатор. Это Марко Веньер».
Имя упало в тишину мастерской, как камень в темную воду канала. Веньер. Одна из старейших и могущественнейших семей Венеции, чья история была вплетена в саму ткань Республики. Семья, о которой шептались, которую боялись. Они не выставляли свое богатство напоказ, как нувориши, но все знали, что их влияние простирается от Дворца дожей до самых темных закоулков Арсенала. А сам Марко Веньер был фигурой почти мифической. Его редко видели в свете, он не устраивал пышных приемов, но говорили, что ни одно важное решение в Совете Десяти не принималось без его незримого участия. Он был тенью за троном, настоящей властью, скрытой за фасадом Республики.
Алессия почувствовала, как по венам вместо крови побежал холодок. «Веньер? Почему он обратился к нам? Есть художники известнее, старше…»
«Он сказал, что ему нужен не льстец, а тот, кто умеет видеть, – Лоренцо понизил голос до заговорщицкого шепота. – Его слуга нашел меня в «Серебряной чайке». Не спрашивал, не торговался. Просто передал это».
Он протянул ей сложенный листок плотной, дорогой бумаги. Алессия взяла его. Бумага была теплой от его руки. Никакого герба, никакой подписи. Лишь печать из черного воска с оттиском странного узора, похожего на лабиринт. Она сломала печать. Внутри было всего несколько строк, выведенных твердым, уверенным почерком с резкими, как удар рапиры, росчерками: «Маэстро Беллини. Палаццо Веньер. Завтра, на третьем часе после полудня. Вопрос цены не стоит».
Это был не заказ. Это был приказ.
«Он хочет, чтобы ты написала его портрет, – выдохнул Лоренцо, не в силах сдерживать восторг. – Представляешь, Алессия? Портрет Марко Веньера! После этого все двери Венеции будут открыты для нас! Мы сможем…»
«Мы сможем оказаться в свинцовых камерах под Дворцом дожей или на дне канала с камнем на шее», – ледяным тоном оборвала его Алессия. Она снова и снова перечитывала короткое послание. В нем не было ни вежливости, ни просьбы. Только холодная, абсолютная уверенность в том, что ему не откажут. «Это безумие, Лоренцо. Люди вроде Веньера… они не любят, когда их разглядывают. Они видят насквозь. Он поймет. Один неверный жест, один взгляд – и все кончено».
Ее страх был почти осязаем. Он пах скипидаром и пылью. Она слишком долго и тщательно строила свою крепость, свою мужскую личину, чтобы позволить одному таинственному патрицию разрушить ее до основания. Она представила себе его взгляд – пронзительный, как стилет инквизитора, – и ее руки, которые должны были быть тверды, мелко задрожали.
«Ты преувеличиваешь! – отмахнулся Лоренцо, но в его голосе уже не было прежней уверенности. Он подошел к столу и сгреб монеты в кошель. – Посмотри! Это наш шанс! Шанс расплатиться со всеми долгами, жить, а не выживать. Отец гордился бы тобой».
Упоминание об отце было ударом ниже пояса. Отец, гениальный и несчастный, сломленный интригами завистников и безденежьем, умерший в этой самой мастерской, завещав ей лишь свой талант и свои долги. Именно ради его памяти она пошла на этот обман. Чтобы имя Беллини снова зазвучало в Венеции.
«Отец учил меня не только живописи, – тихо сказала она. – Он учил меня осторожности. Он говорил, что самые опасные натурщики – те, кто молчит. В их молчании можно утонуть».
«Так откажись! – вспылил Лоренцо, его страх прорвался сквозь браваду. – Откажись, и мы вернем этот аванс. И тогда можешь сама объясняться с синьором Тьеполо, которому я должен сумму, вдвое большую. Он обещал, что его люди сломают мне пальцы. Интересно, как ты будешь писать картины после этого?»
Он не угрожал. Он констатировал факт. Их общая, уродливая реальность. Его долги были ее кандалами. Ее талант был его спасательным кругом. Они были связаны намертво, как гондола с причалом.
Алессия закрыла глаза. Перед внутренним взором пронеслись лица: самодовольное лицо сенатора Градениго, жадные глаза ростовщика Тьеполо, испуганное лицо Лоренцо. Все они чего-то хотели от нее, все тянули к ней руки. И посреди них возникло новое лицо, которого она никогда не видела, но уже чувствовала. Лицо Марко Веньера. Темное, непроницаемое, как венецианская ночь.
Что-то внутри нее, помимо страха, шевельнулось. Любопытство художника, азарт игрока. Каков он, этот человек-тень? Что скрывается за его маской власти и тайны? Сможет ли ее кисть проникнуть сквозь нее? Сможет ли она, Алессия, спрятанная за личиной Лоренцо, разгадать его и не выдать при этом себя? Это был вызов. Опасный, смертельный, но оттого еще более притягательный. Величайший заказ в ее жизни, который мог стать и последним.
Она медленно открыла глаза. Ее взгляд упал на незаконченный натюрморт в углу мастерской. Череп, лежащий рядом с раскрытой книгой и увядшей розой. Vanitas. Суета сует. Все тлен. Все, кроме искусства. Искусство было вечным. И шанс создать шедевр выпадал не каждый день.
«Хорошо», – сказала она, и слово прозвучало в тишине мастерской как приговор. – «Я напишу его портрет».
Лоренцо облегченно выдохнул, его лицо снова просияло. Он хотел было обнять ее, но вовремя остановился, вспомнив, что она сейчас не сестра, а деловой партнер, маэстро Беллини.
«Я знал! Я знал, что ты согласишься! – он схватил ее за плечи. – Ты лучшая, слышишь? Лучшая во всей Венеции!»
Она высвободилась из его рук и подошла к столу. Ее пальцы коснулись холодного золота. Монеты казались платой не за будущую картину, а за ее душу. Она подняла одну и поднесла к свету. Профиль дожа смотрел на нее слепо и бесстрастно.
«Уходи, Лоренцо», – сказала она, не оборачиваясь. Голос ее был ровным и глухим. «Мне нужно подготовиться. И… раздай самые срочные долги. Не все. Только самые срочные. Остальное спрячь».
Он кивнул, торопливо сгребая кошель, и, насвистывая какой-то фривольный мотивчик, выскользнул за дверь. Снова наступила тишина, но теперь она была другой. Она была наполнена ожиданием, тревогой и странным, возбуждающим предвкушением.
Алессия осталась одна посреди своей мастерской, посреди своего обмана. Она посмотрела на свои руки. Руки художника, способные смешать на палитре цвет заката и отчаяния. Завтра этим рукам предстояло коснуться холста, на котором она должна будет изобразить одного из самых опасных людей Венеции. Завтра ей предстояло войти в палаццо Веньер, в самое сердце лабиринта, из которого могло и не быть выхода. Она сжала кулаки. Краска под ногтями въелась в кожу, как клеймо. В полумраке мастерской ее собственная тень на стене казалась чужой, незнакомой, искаженной и пугающе мужской.
Взгляд заказчика
Гондола скользила по узкому каналу, зажатому между глухими, влажными стенами домов, лишенных парадного блеска Большого канала. Здесь Венеция показывала свое иное лицо, не то, что предназначалось для послов и торговцев. Воздух был густым и неподвижным, пах тиной, гниющими сваями и холодной солью. Алессия сидела, сцепив пальцы в перчатках на коленях, и заставляла себя дышать ровно. Мужской камзол, позаимствованный у Лоренцо, сидел мешковато, но под ним тугой льняной бинт сдавливал грудь, превращая каждый вдох в осознанное усилие. Она была Лоренцо Беллини, восходящей звездой венецианской живописи. Она повторяла это про себя, как заклинание, но слова казались тонкими, как паутина, готовая порваться от любого неосторожного движения.
Гондольер, молчаливый старик с лицом, выдубленным ветрами Адриатики, направил лодку в последний, еще более узкий проход, и они вышли к небольшой уединенной пристани. Перед ней возвышался фасад Палаццо Веньер. Он не подавлял избытком декора, как многие другие дворцы. Его красота была строгой, почти суровой. Темно-серый истрийский камень, высокие стрельчатые окна, забранные тяжелыми решетками, и глухие, окованные железом ворота. Дворец не хвастался своим богатством, он просто констатировал свою мощь, свою неприступность. Он был похож не на дом, а на крепость, хранящую свои тайны.
Слуга, открывший калитку, был под стать дворцу – безмолвный, одетый в темную ливрею без гербов, он двигался с бесшумной эффективностью тени. Он не произнес ни слова, лишь кивнул и повел ее внутрь. Они миновали холодный, гулкий вестибюль, где звук ее шагов по мраморным плитам отдавался под сводчатым потолком, и поднялись по широкой лестнице, ступени которой были стерты поколениями Веньеров. Стены были увешаны портретами предков. Алессия, как художник, не могла не отметить их качество. Здесь были работы Тициана, Тинторетто, Веронезе. Лица суровых воинов, хитрых дипломатов и бледных, похожих на драгоценности женщин смотрели на нее из полумрака. Они не просто висели на стенах – они были частью этой давящей тишины, они судили и оценивали каждого, кто осмеливался войти в их владения.
Слуга остановился перед массивной резной дверью и, приоткрыв ее, жестом пригласил Алессию войти, после чего бесшумно прикрыл створку за ее спиной. Она оказалась в просторном кабинете. Здесь было больше света, чем в остальном дворце, но свет этот был странным – холодным, рассеянным, льющимся из высокого окна, выходившего не на канал, а во внутренний, заросший плющом дворик. Воздух был пропитан запахом старых книг, воска и чего-то еще, неуловимого, терпкого, как запах сухого вина или редких пород дерева. Вдоль стен тянулись шкафы из черного дуба, заставленные фолиантами в кожаных переплетах. На огромном столе, заваленному картами и бумагами, стоял глобус и несколько астрономических приборов из потускневшей меди. Но никого не было.
Она осталась стоять посреди комнаты, чувствуя себя неуместно, как яркий мазок киновари на холсте, написанном умброй и сиеной. Эта нарочитая пауза, это ожидание было частью игры, она поняла это сразу. Ее изучали, ей давали время пропитаться атмосферой этого места, осознать его вес. Она заставила себя расправить плечи, приняв позу уверенного в себе мастера. Она – Лоренцо Беллини. Она пришла обсуждать заказ, а не трепетать перед богатством. Алессия медленно обвела взглядом комнату, ее глаз художника жадно впитывал детали. Картины здесь были иными, не парадными портретами. На стене напротив висело полотно в стиле Караваджо – напряженная сцена с Иудифью и Олоферном, где свет выхватывал из мрака лишь отчаянную решимость на лице женщины и предсмертный ужас в глазах мужчины. Игра света и тени, кьяроскуро, доведенная до предела, превращала библейский сюжет в драму о власти, предательстве и неизбежности. Выбор такой картины для кабинета говорил о владельце больше, чем все фамильные портреты в галерее.
– Вам нравится? – Голос раздался из самого темного угла комнаты, оттуда, где глубокое кресло с высокой спинкой сливалось с тенью от книжного шкафа.
Алессия вздрогнула, но не позволила этому отразиться на лице. Она медленно повернулась. Мужчина поднялся из кресла и шагнул в полосу света. Марко Веньер. Он был выше, чем она представляла, и двигался с хищной, сдержанной грацией. На нем был простой, но безупречно сшитый камзол из черного бархата, не скрывавший, а подчеркивавший атлетическую фигуру. Никаких кружев, никакой вышивки – лишь белизна тончайшего батиста у воротника и манжет. Его лицо было словно высечено из камня – высокие скулы, прямой нос, твердая линия подбородка. Но все это было лишь рамой для его глаз. Серые, холодные, как зимнее море, они смотрели на нее не просто внимательно, а пронзительно. Это был не взгляд заказчика, оценивающего товар. Это был взгляд инквизитора, ищущего ересь, взгляд анатома, ищущего скрытый порок под безупречной кожей.
– Это мощная работа, – ответила Алессия, стараясь, чтобы ее голос звучал ниже и увереннее. – Художник не побоялся заглянуть в бездну. Не каждый решится повесить такое в своем кабинете. Это требует определенного склада ума.
– Или отсутствия иллюзий, – Марко Веньер подошел ближе. Он остановился на расстоянии двух шагов, но Алессии показалось, что он вторгся в ее личное пространство. От него исходил едва уловимый аромат – не цветочные эссенции, принятые при дворе, а что-то более резкое и чистое: запах дорогого мыла, кожи и озона после грозы. – Говорят, вы, маэстро Беллини, тоже не боитесь заглядывать в бездну. Что ваши портреты – это не лесть, а приговор. Именно поэтому я вас и пригласил.
Его губы изогнулись в подобии улыбки, но глаза оставались холодными. Дуэль началась.
– Я пишу то, что вижу, синьор, – парировала она, встречая его взгляд. – Если человек желает видеть на холсте не себя, а свою фантазию, ему лучше нанять декоратора, а не портретиста.
– Прекрасно. Значит, мы поймем друг друга. – Он обошел ее, медленно, словно хищник, изучающий свою добычу. Алессия почувствовала, как по спине пробежала волна холода, несмотря на духоту комнаты. Она заставила себя стоять неподвижно, не оборачиваясь, но ощущала его взгляд на своем затылке, на линии плеч, на руках, сжимающих шляпу. – Меня не интересует мое положение. Я не нуждаюсь в том, чтобы холст напоминал мне, кто я такой. Это делают другие, и делают это весьма утомительно. Я хочу, чтобы вы написали не Марко Веньера, патриция и члена Совета. Я хочу, чтобы вы написали человека. Со всеми его… трещинами на лаковом покрытии. Способны ли вы на это, маэстро?
Его голос был низким, бархатным, но в нем слышались стальные ноты. Вопрос был провокацией. Он сомневался в ней. Или проверял ее.
– Любой человек – это игра света и тени, синьор, – ответила Алессия, поворачиваясь к нему. Она заставила себя посмотреть ему прямо в глаза. – Задача художника – найти правильный баланс, чтобы на холсте проступила истина. Даже если она скрыта в самой глубокой тени. Это не вопрос способности. Это вопрос времени и… откровенности натурщика.
На мгновение в его глазах что-то мелькнуло. Не удивление, скорее, интерес. Он снова сократил дистанцию, останавливаясь так близко, что она могла видеть крошечный, почти незаметный шрам у него на брови и золотистые искорки в серой радужке.
– Откровенности… – он произнес это слово медленно, словно пробуя его на вкус. – Вы просите откровенности от меня. А насколько откровенны вы сами, маэстро Лоренцо?
Его взгляд скользнул с ее глаз ниже, к губам, к шее, где тугой воротник рубашки натирал нежную кожу, и задержался на ее руках. Алессия вдруг остро осознала свои руки – тонкие, с длинными пальцами, испачканными въевшимся пигментом под ногтями. Руки художника. Но были ли они похожи на руки мужчины? Она инстинктивно сжала их за спиной.
– Моя откровенность – на моих холстах. Это единственное, что имеет значение, – ее голос прозвучал резче, чем она хотела.
Марко Веньер не отступил. Напротив, он сделал еще один, едва заметный шаг. Воздух между ними, казалось, загустел, стал вязким и горячим. Он не касался ее, но она чувствовала его тепло, его присутствие всем телом. Это было невыносимо. Ее мужской костюм вдруг стал не броней, а тонкой, хрупкой скорлупой. Она чувствовала себя обнаженной под этим всепроникающим взглядом, который, казалось, игнорировал одежду, проникал сквозь кожу и кости, пытаясь нащупать самую ее суть.
– Ваши руки, – сказал он тихо, и от этого шепота у нее перехватило дыхание. – Они слишком изящны для мужчины, который работает с холстом и подрамниками. Ваш отец, говорят, был могучим человеком. Вы не пошли в него.
Страх, холодный и липкий, поднялся от желудка к горлу. Он видит. Он все видит. Она отчаянно искала ответ, любую фразу, которая могла бы отвести удар.
– Кисть не требует грубой силы, синьор, – выдавила она. – Она требует точности. Моя сила – в кончиках пальцев.
– В кончиках пальцев, – повторил он, и его взгляд снова вернулся к ее лицу. – И в глазах. У вас глаза вашей матери?
Это был удар под дых. Никто никогда не спрашивал о ее матери, умершей при родах. Все знали только ее отца. Откуда он это знает? Он что, наводил справки? Паранойя, верная спутница ее двойной жизни, закричала об опасности.
– Я ее не помню, – ответила она глухо.
– Жаль. Говорят, она была редкой красавицей. – Он отошел, наконец-то разрывая это невыносимое напряжение. Алессия смогла вдохнуть. Он подошел к столу, провел пальцами по глобусу, медленно раскручивая его. – Итак, о заказе. Я хочу, чтобы вы работали здесь, в этом кабинете. Никто не будет нам мешать. Я буду в вашем полном распоряжении по три часа, дважды в неделю. Цена… – он махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, – не имеет значения. Назовите любую сумму, мой управляющий заплатит. Вас это устраивает?
Она должна была почувствовать триумф. Заказ, о котором любой художник в Венеции мог только мечтать. Полная свобода, неограниченный бюджет. Но вместо радости она ощущала лишь холодную пустоту в груди. Это было похоже не на сделку, а на подписание договора с дьяволом. Он не просто заказывал портрет. Он покупал ее время, ее присутствие, ее внимание. Он запирал ее в этой комнате вместе с собой, со своими тайнами и своим опасным, всевидящим взглядом.
– Да, синьор Веньер. Устраивает, – кивнула она, понимая, что выбора у нее нет. Отказаться сейчас – значит, признать свой страх, подтвердить его подозрения.
– Тогда начнем послезавтра. Приходите к полудню. Принесите все, что вам нужно. Мои люди помогут вам с мольбертом и холстом. Я хочу, чтобы вы писали на большом холсте. В полный рост.
Он снова посмотрел на нее, и на этот раз в его взгляде была не только подозрительность, но и что-то еще. Темный, обволакивающий интерес, который пугал ее больше, чем прямые вопросы. Это был интерес мужчины к женщине, пробивающийся сквозь все маски и условности. Он не знал наверняка, но он чувствовал. И ему нравилась эта игра. Ему нравилось ее замешательство, ее скрытое напряжение. Он наслаждался своей властью.
Алессия кивнула еще раз, не в силах вымолвить ни слова. Она развернулась и пошла к двери, чувствуя его взгляд на своей спине каждым нервным окончанием. Ее шаги казались ей неуклюжими, мужская походка, которую она так долго репетировала, вдруг стала неестественной и фальшивой.
– Маэстро Беллини, – окликнул он ее, когда ее рука уже коснулась холодной бронзы дверной ручки.
Она замерла, не оборачиваясь.
– Вы так и не сказали, что вы думаете о картине, – его голос звучал спокойно, но в нем была скрытая насмешка. – Об Иудифи. Как вы считаете, что она чувствовала в тот момент? Триумф? Отвращение? А может… влечение к своей жертве?
Алессия медленно повернула голову. Их взгляды встретились через всю комнату, через полосы света и тени, падавшие на персидский ковер.
– Я думаю, – произнесла она медленно, вкладывая в слова всю свою гордость и весь свой страх, – она чувствовала, что это единственный способ выжить. И что цена этой жизни будет невероятно высока.
Не дожидаясь ответа, она открыла дверь и вышла в коридор, где ее уже ждал безмолвный слуга. Она шла по гулким залам Палаццо Веньер, мимо суровых лиц его предков, и чувствовала себя не Иудифью, а Олоферном, который только что добровольно положил голову на плаху, завороженный взглядом своего палача. И она знала, что топор уже занесен.