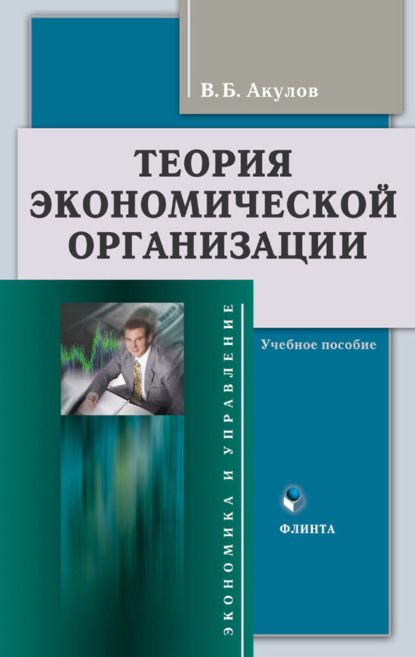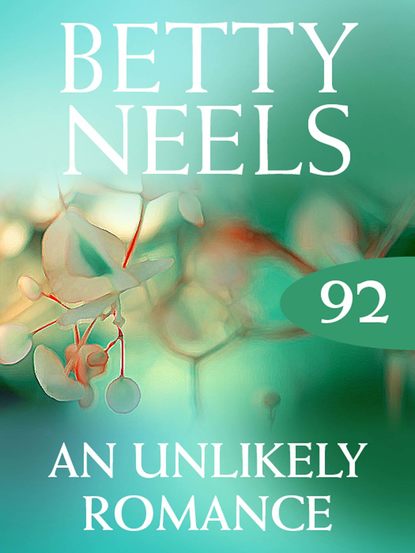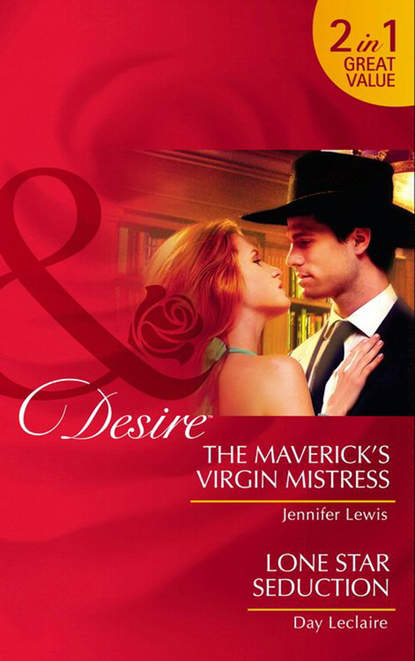Венецианская маска

- -
- 100%
- +
Алессия замерла с кистью в руке. Она была уверена, что на ее лице написан весь ужас, который она пережила. Что он сейчас подойдет, посмотрит ей в глаза и все поймет.
Он медленно прошел по комнате и остановился за ее спиной, глядя на холст. Она чувствовала его дыхание у себя на затылке. Секунды растянулись в вечность.
– Вы хорошо поработали, пока меня не было, – сказал он наконец. Его голос снова стал спокойным, почти мягким. – Тень под скулой… Вы сделали ее глубже. Это правильно. Именно так я себя и чувствую. Словно из меня выкачали часть света.
Он обошел мольберт и встал напротив нее. Его серые глаза внимательно изучали ее лицо.
– А вот вы, маэстро, выглядите неважно. Вы бледны. Вино, которое я велел принести, вам не по вкусу?
Она покачала головой, не в силах вымолвить ни слова.
– Нет? – он чуть склонил голову набок, и в его взгляде появилось то самое опасное, изучающее выражение, от которого у нее леденела кровь. – Тогда, быть может, вас напугали тени в этой комнате? Они здесь бывают длинными и темными. Иногда в них можно увидеть призраков прошлого.
Он говорил спокойно, почти сочувственно, но Алессия поняла – это допрос. Он проверяет ее. Он почувствовал перемену в ней, в атмосфере комнаты. Он был хищником, который уловил запах страха.
Ей нужно было что-то сказать. Что угодно. Любая ложь, которая спасет ее. Она сделала глубокий вдох, молясь, чтобы голос не дрогнул.
– Простите, синьор, – сказала она, глядя на свою палитру, на месиво красок, которое казалось ей сейчас отражением ее собственных смятения и ужаса. – Просто… свет изменился. Я пыталась уловить новый оттенок, но… он ускользает. Я слишком увлеклась работой. Усталость.
Она подняла на него глаза, вложив в свой взгляд всю актерскую игру, на которую была способна. Взгляд усталого, увлеченного своим делом художника.
Марко смотрел на нее долго, не мигая. Его лицо было непроницаемо. Ей казалось, он слышит, как бешено колотится ее сердце, как шумит кровь в ушах.
А потом он улыбнулся. Той самой своей едва заметной улыбкой, от которой по ее коже бежали мурашки. Но теперь она знала цену этой улыбке.
– Усталость, – повторил он медленно. – Да, конечно. Искусство требует полной отдачи. Иногда оно выпивает до дна. Что ж, на сегодня, пожалуй, хватит. Я и сам утомлен. Продолжим послезавтра.
Он развернулся и пошел к своему креслу. Сел, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Сеанс окончен. Она была свободна.
Алессия молча, торопливыми, но выверенными движениями начала чистить кисти и закрывать краски. Ее руки действовали на автомате, пока разум лихорадочно работал. Она выжила. На этот раз. Но она больше не была просто художником, выполняющим заказ. Она стала свидетелем. А в Венеции свидетели долго не жили.
Она собрала свои вещи, поклонилась неподвижной фигуре в кресле и вышла из кабинета. В длинных, сумрачных коридорах Палаццо Веньер ей казалось, что портреты предков смотрят на нее с осуждением и насмешкой. Они знали. Они всегда все знали.
Когда гондола отчалила от пристани, Алессия не оглянулась. Она смотрела на темную, маслянистую воду канала, в которой отражался свинцовый закат. Венеция предстала перед ней в своем истинном свете. Не город карнавалов и серенад, а лабиринт, где за каждым углом ждет опасность, а под каждой маской скрывается либо жертва, либо палач. И она, Алессия Беллини, по своей воле вошла в этот лабиринт, ведомая гордыней и талантом. Теперь ее палитра навсегда изменилась. К теплым охрам, нежным карминам и небесному ультрамарину добавились новые цвета. Цвет страха, холодный, как сталь стилета. Цвет лжи, вязкий, как ил на дне канала. И цвет смерти, черный, как вода под Мостом Вздохов в безлунную ночь. И именно этими цветами ей предстояло закончить свой главный шедевр. Портрет чудовища, которое ее так неодолимо влекло.
Брат и его цена
Мастерская больше не была убежищем. Она стала клеткой, где эхо шагов Марко Веньера застревало в углах, смешиваясь с запахом льняного масла и скипидара. Алессия стояла перед огромным холстом, на котором угольными штрихами уже проступил призрак ее заказчика. Она пыталась работать, заставить пальцы слушаться, но кисть в руке казалась чужой, тяжелой. Каждый раз, когда она смешивала на палитре краски, чтобы найти оттенок его кожи – сложную смесь охры, сиены и капли кармина, – перед ее внутренним взором вставала не его аристократическая маска, а биение жилки на его шее, тепло его тела, которое она ощутила кончиками пальцев. То мимолетное, обжигающее прикосновение разрушило в ней что-то важное, пробило брешь в броне, которую она выстраивала годами. Теперь холод сквозил через эту брешь, и этот холод был страхом.
Страх был многослойным, как живопись старых мастеров. Нижний слой, темный и плотный, как болюсный грунт, – это была память о карте на его столе, о письме с печатью Совета Десяти. Он был не просто патрицием. Он был властью, той самой безликой, всевидящей властью, что держала Венецию в кулаке, перемалывая судьбы тех, кто стоял на ее пути. Он был одним из пауков в центре паутины, а она, Алессия, была всего лишь мухой, запутавшейся в липких нитях его заказа. Верхний слой страха был иным, прозрачным и мерцающим, как финальный слой лака. Это был страх перед ним как перед мужчиной. Страх перед тем, как ее тело откликнулось на его близость, предав ее разум. Она, художница, привыкшая изучать, анализировать и властвовать над своими моделями, сама превратилась в объект изучения. И его пронзительный взгляд видел слишком много. Он видел трещины в ее обмане.
Она отложила кисть. Работа не шла. Образ на холсте смотрел на нее с насмешкой, его угольные глаза знали ее тайну. Она подошла к окну, выходившему в тесный, сырой дворик-колодец. Влажный воздух, тяжелый от запахов гниющего камня и готовящейся где-то рядом рыбы, не приносил облегчения. Венеция жила своей жизнью за стенами ее мастерской. Крики торговцев, плеск весел, далекий звон церковного колокола – все эти звуки казались ей теперь предвестниками беды. Ее мир, некогда ограниченный холстом и палитрой, расширился до пугающих размеров, включив в себя залы Дворца Дожей и темные каналы, где вершились тайные приговоры.
Дверь в мастерскую распахнулась без стука, с такой силой, что ударилась о стену. На пороге стоял Лоренцо. Или, вернее, то, что от него осталось. Его светлый поэтический облик был смят и испачкан. Обычно тщательно уложенные волосы были всклокочены, дорогой кружевной воротник порван, на скуле алел свежий кровоподтек, а глаза… В его глазах был тот животный, первобытный ужас, который Алессия видела однажды на лице человека, которого стражники тащили в свинцовые тюрьмы Пьомби.
«Алессия…» – выдохнул он, и его голос был хриплым шепотом. Он шагнул внутрь и рухнул на ближайший табурет, обхватив голову руками. Его плечи сотрясала мелкая дрожь.
Холод в груди Алессии сгустился, превратившись в ледяной ком. Она молча подошла к нему, взяла со стола кувшин с водой и налила в глиняную кружку. Его пальцы так дрожали, что он едва удержал ее, расплескав половину воды на пол. Он пил жадно, судорожно, словно умирал от жажды.
«Что случилось?» – ее голос прозвучал глухо и ровно. В такие моменты ее эмоции словно замерзали, уступая место ледяному спокойствию. Паника была роскошью, которую она не могла себе позволить.
Он поставил кружку, ее дно стукнуло о деревянный стол с оглушительным звуком. «Все кончено, сестра. Нам конец».
«Говори внятно, Лоренцо», – ее тон стал жестче. – «Кто это сделал?» – она кивнула на его лицо.
Он поднял на нее взгляд, и в его глазах, так похожих на ее собственные, плескалось отчаяние. «Это неважно. Это было… предупреждение. Алессия, я… я в беде. В ужасной беде».
Она ждала, скрестив руки на груди, давая ему собраться с мыслями. Она уже знала, что услышит. Вариации этой истории повторялись с пугающей регулярностью с тех пор, как к ней, к «маэстро Беллини», начали приходить настоящие деньги. Только масштаб бедствия менялся.
«Карты, – прошептал он, избегая ее взгляда. – Ридотто Сан-Моизе. Я думал, мне повезет. Я должен был отыграться…»
«Кому?» – ее вопрос был острым, как скальпель.
«Гаспаре Скарпиа».
Имя упало в тишину мастерской, как камень в глубокий колодец. Алессия почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. Гаспаре Скарпиа. Его не называли ростовщиком. Это слово было слишком мелким для него. Он был коллекционером. Он коллекционировал долги, тайны и души людей, имевших неосторожность попасть в его сети. Его прозвище в темных переулках Риальто было Скорпион. Потому что его жало было смертельным.
«Сколько?» – выдохнула она.
Лоренцо сглотнул. Он выглядел как ребенок, готовый расплакаться. «Много, сестра. Очень много. Все, что ты мне давала… и еще сверх того. Пятьсот дукатов».
Пятьсот дукатов. Сумма была астрономической. Это были деньги, на которые можно было купить небольшой дом. Это было больше, чем аванс, который она получила от Марко Веньера. Она закрыла глаза. Перед ней качнулся мир. Ее тщательно выстроенная крепость, ее обман, ее будущее – все это рассыпалось в прах от одной брошенной ее братом карты.
«Он дал мне срок, – торопливо зашептал Лоренцо, словно боясь, что она сейчас закричит, ударит его. – До конца месяца. Если я не принесу деньги… он сказал… он сказал, что его люди очень любопытны. Они захотят узнать, откуда у нищего поэта такие связи. Как так вышло, что Лоренцо Беллини, которого все знали как бездельника, вдруг стал самым модным художником в Венеции, не умея даже правильно держать кисть. Он сказал, что задаст несколько вопросов в Гильдии Святого Луки. Он сказал… он сказал, что найдет способ получить свои деньги с твоего богатого покровителя. Он знает о Веньере, Алессия!»
Последние слова ударили ее наотмашь. Скарпиа знал о Веньере. Это меняло все. Это превращало карточный долг ее брата-идиота в смертельную угрозу для нее самой. Шантаж. Разоблачение. Скандал, который затронет не только ее, но и одного из самых влиятельных людей Республики. И тогда реакция Марко Веньера будет страшнее мести любого ростовщика. Он не потерпит, чтобы его имя смешали с грязью. Он сотрет ее в порошок, ее и Лоренцо, и никто даже не вспомнит, что они когда-то существовали.
Она открыла глаза. Ледяное спокойствие вернулось, но теперь оно было другим – острым, как осколок стекла.
«Ты понимаешь, что ты наделал?» – она произнесла это тихо, почти без выражения, и от этого ее слова прозвучали еще страшнее. – «Ты поставил на кон не свои паршивые долги. Ты поставил наши жизни. Мою свободу. Все, ради чего я…» – она осеклась. Говорить о ее жертвах было бессмысленно. Он никогда не поймет. Для него ее работа, ее талант были лишь неиссякаемым источником золота для его удовольствий.
«Прости, Алессия, прости…» – забормотал он, пытаясь взять ее за руку. Она отдернула ее, как от огня. – «Я все исправлю, клянусь…»
«Как? – ее голос звенел от сдерживаемой ярости. – Напишешь сонет, который растопит каменное сердце Скарпиа? Или снова пойдешь в игорный дом, чтобы отыграться?»
Он съежился под ее взглядом. Вся его напускная бравада, его поэтические позы слетели, оставив лишь слабого, испуганного человека. «Я не знаю… Я думал, ты… ты что-нибудь придумаешь. Ты всегда придумываешь».
«Я», – горько усмехнулась она. – «Конечно. Всегда я».
Она отошла от него и начала мерить шагами мастерскую. Взад-вперед. Мимо мольберта с портретом Веньера, мимо стола с ее кистями, мимо сундука, где она хранила свои женские вещи, как преступник хранит улики. Мысли в ее голове метались, как стая обезумевших птиц. Пятьсот дукатов. Где их взять?
Аванс Веньера уже был почти потрачен – на новые холсты, дорогие пигменты, которые требовались для его заказа, на оплату счетов, которые Лоренцо так легкомысленно накапливал. Продать что-то? Все ценное, что осталось от отца, давно было продано. Попросить в долг у других заказчиков? Это вызовет подозрения. «Маэстро Беллини» был на пике успеха, у него не могло быть нужды в деньгах. Любой неверный шаг, любой слух мог разрушить его репутацию, а значит, и ее единственный источник дохода.
И тут, как ядовитая змея, в ее сознание вползла мысль. Самая очевидная и самая невозможная. Марко Веньер. Он сказал, что цена не имеет значения. Он бросил ей кошель с золотом как милостыню. Для него пятьсот дукатов – не деньги. Пыль. Она могла бы прийти к нему, придумать историю о внезапной нужде, о больной родне…
Она резко остановилась. Нет. Никогда. Просить у него помощи означало добровольно надеть на себя ошейник. Это превратило бы ее из талантливого мастера, с которым он считался, в жалкую просительницу. Это дало бы ему абсолютную власть над ней. Он и так был слишком близко к ее тайне. Стать его должницей означало отдать ему в руки ключ от последней двери, за которой она прятала себя. Ее гордость, единственное, что у нее осталось, восстала против этой мысли. Она скорее пойдет чистить рыбу на рынок, чем унизится перед ним.
«Есть один выход», – произнесла она медленно, глядя в пустоту.
Лоренцо поднял голову, в его глазах блеснула надежда. «Какой?»
Она повернулась к нему. Ее лицо было бледным и решительным. «Ты исчезнешь. Уедешь из Венеции. Сегодня же. Поезжай в Падую, к тетке Марии. Сиди там и не высовывайся, пока я не решу эту проблему».
«Но… как же ты?»
«Я – это не твоя забота, – отрезала она. – Твоя единственная забота сейчас – это убрать свое лицо с венецианских улиц, чтобы люди Скарпиа не наткнулись на тебя снова. Я скажу всем, что ты уехал поправлять здоровье на континент. Ты же поэт, тебе положены меланхолия и свежий воздух».
План рождался в ее голове на ходу, отточенный и холодный, как лезвие стилета. Отсутствие Лоренцо было риском. Он был ее «лицом», ее голосом в мужском мире. Но сейчас его присутствие было еще большим риском. Он был ходячей мишенью.
«А деньги?» – прошептал он.
«Я найду их».
«Как?»
«Это неважно. Просто знай, что если ты не уедешь, они найдут нас обоих. И тогда тебе не понадобится ни золото, ни стихи».
Она подошла к тайнику за старым гобеленом, достала небольшой кожаный кошель. Там было все, что у нее оставалось – несколько золотых и горсть серебра. Она высыпала все на стол. «Этого хватит на дорогу и на жизнь на первое время. Больше у меня нет. Иди. Собирай вещи. Только самое необходимое. И чтобы через час тебя здесь не было».
Он смотрел на монеты, потом на нее. В его взгляде промелькнуло что-то похожее на стыд, но он быстро спрятал его. Он был слаб, но инстинкт самосохранения в нем был силен. Он молча сгреб деньги со стола, поднялся и, не глядя ей в глаза, пошел к выходу. Уже у самой двери он обернулся.
«Алессия… Спасибо. Я твой должник».
«Ты наш общий должник, Лоренцо, – тихо ответила она. – И цена этого долга может оказаться выше, чем мы можем заплатить».
Он ушел. Дверь за ним закрылась, на этот раз тихо, почти неслышно. Тишина, которая опустилась на мастерскую, была еще более гнетущей, чем раньше. Алессия осталась одна. Одна со своим страхом, со своим отчаянием и с чужим долгом, который теперь стал ее смертельным приговором.
Она снова подошла к портрету. Лицо Марко Веньера, набросанное углем, смотрело на нее с холста. Властное, проницательное, опасное. Он был частью проблемы. Он был ее самой большой угрозой и, возможно, ее единственным, но запретным спасением. Она смотрела в его нарисованные глаза и чувствовала, как ее разрывает на части. Ее мир, ее хрупкая конструкция из лжи и таланта, трещала по швам. Она была художником, который всю жизнь учился управлять светом и тенью на холсте, но теперь ее собственная жизнь погружалась во мрак, из которого, казалось, не было выхода.
Но она не была бы дочерью своего отца, если бы сдалась. Отчаяние прошло, оставив после себя холодную, ясную ярость. Ярость на брата, на мир, который заставлял ее прятаться, на саму себя за ту минутную слабость в кабинете Веньера. Эта ярость была топливом. Она заставляла кровь бежать быстрее, а мозг работать четче.
Пятьсот дукатов. До конца месяца. Это чуть больше двух недель.
Она подошла к столу, где были свалены старые заказы и эскизы. Она начала перебирать их, ее пальцы летали над бумагами. Она должна была найти способ. Должен был быть кто-то… кто-то, кто готов был заплатить много и быстро. Кто-то, кому был нужен портрет не для вечности, а для сиюминутного тщеславия. Кто-то, кто не будет задавать лишних вопросов.
Ее пальцы наткнулись на визитную карточку из плотного картона с тисненым гербом. Она давно отложила ее, считая заказ слишком вульгарным, недостойным кисти «маэстро Беллини». Антонио Гримани. Нувориш, торговец шелком, известный своим бахвальством и любовью к показной роскоши. Он хотел портрет в полный рост, в доспехах, на фоне фамильного герба, который он сам себе и выдумал. Она тогда отказала ему через Лоренцо, сославшись на занятость.
Теперь она смотрела на эту карточку по-другому. Это был не просто вульгарный заказ. Это был шанс. Гримани заплатит. Заплатит много, чтобы похвастаться, что его писал сам Беллини. Он заплатит вперед, если ему пообещать, что работа будет выполнена быстро. Это было унизительно. Это было предательством ее собственного таланта – разменивать его на то, чтобы рисовать павлина в доспехах. Но речь шла уже не об искусстве. Речь шла о выживании.
Она крепко сжала картон в руке. Края врезались в ладонь. Решение было принято. Она посмотрит в глаза Гаспаре Скарпиа и бросит ему в лицо его деньги. Она выкупит их с Лоренцо жизни. Она снова станет хозяйкой своей судьбы.
Снаружи донесся крик гондольера. Вечер опускался на Венецию, зажигая в окнах домов первые огни, похожие на глаза ночных хищников. Алессия повернулась к портрету Веньера. Его темный, требовательный взгляд все так же сверлил ее из полумрака. Работа над его портретом была опасной игрой, поединком воль. Но теперь она поняла, что это была лишь прелюдия. Настоящая битва за ее жизнь, за ее тайну и за ее душу только начиналась. И вести ее придется на два фронта.
Неожиданный жест
Два дня превратились в свинцовый груз, который Алессия тащила на себе, как каторжник ядро. Сон стал роскошью, короткие тревожные провалы в темноту, из которых ее выдергивал один и тот же кошмар: лицо синьора Тьеполо, ростовщика, гладкое и бесстрастное, как у глиняной куклы, и его руки, ломающие пальцы Лоренцо, словно сухие ветки. Хруст костей был оглушительным, он преследовал ее даже наяву, смешиваясь со скрипом гондол и криками чаек. Угроза брата была не пустой бравадой. Она знала репутацию Тьеполо. Он не проливал кровь на улицах, его методы были тише и страшнее. Он забирал то, чем человек жил. У поэта он отбирал слова, ломая ему челюсть. У скрипача – музыку, калеча ему руки. У художника… у художника он отберет его дар. И не имело значения, чьи пальцы он сломает, Лоренцо или ее. Они были одним целым в глазах этого города. Маэстро Беллини станет калекой, и их обман, их единственное средство к существованию, рассыплется в прах.
Деньги сенатора Градениго испарились, как утренний туман. Часть ушла на самые неотложные долги, другая – на покупку редких пигментов для портрета Веньера, которые она не могла себе позволить раньше: настоящий ультрамарин из ляпис-лазури, а не дешевая синяя зола, кармин из кошенили, а не суррогат из сандалового дерева. Это было безумное расточительство в их положении, но она не могла иначе. Работа над этим портретом стала для нее наваждением, единственным смыслом посреди хаоса. Она должна была доказать себе, что она все еще художник, а не просто загнанный в угол должник.
Утром, в день сеанса, Лоренцо ворвался в мастерскую, бледный, с запахом дешевого вина и страха. Он принес записку от одного из прихвостней Тьеполо. Короткую, без угроз. Просто напоминание: «Закат завтрашнего дня». В этих трех словах было больше ужаса, чем в самом длинном проклятии. Закат завтрашнего дня был их сроком.
«Ты должна попросить у него еще аванс!» – шептал Лоренцо, заламывая руки. Его показная элегантность облезла, как позолота со старой рамы. «Скажи, что тебе нужны особые материалы, что угодно! Он богат, как Крез, он даже не заметит!»
«Он не дурак, Лоренцо, – отрезала Алессия, натягивая тугую повязку на грудь. Ткань впивалась в кожу, мешая дышать, и это физическое неудобство было почти облегчением на фоне душевных мук. – Он заметит все. Он видит трещины на лаке, которые еще не появились. Просить у него денег – это все равно что признаться в своей слабости. А слабых он ломает, как я ломаю уголь для рисунка».
«Тогда что нам делать?! Бежать?!» – в его голосе звенела истерика.
«Молчать, – сказала она, надевая мужскую рубашку. – И молиться, чтобы моя кисть сегодня была тверже моей воли».
Дорога в Палаццо Веньер показалась ей путем на эшафот. Венеция утратила свои краски. Вода в каналах была не изумрудной, а гнилостно-черной. Мрамор дворцов казался не розовым, а серым, как старые кости. Город давил на нее, его узкие улочки сжимались, как пальцы на ее горле. Она впервые шла к нему не со страхом разоблачения, а с отчаянной, унизительной надеждой. Надеждой на деньги. Эта мысль жгла ее изнутри постыдным огнем. Она, художник, творец, шла на поклон к своему заказчику, как нищий к дверям церкви.
Когда она вошла в кабинет, он уже был там. Сидел в том же кресле, но не в той расслабленной позе натурщика, а прямо, как судья, положив руки на подлокотники. На нем был строгий черный камзол без единого украшения. В этом аскетичном наряде он выглядел еще более властным и опасным. Свет падал на него так, что половина лица была ярко освещена, а другая тонула в глубокой тени. Кьяроскуро во плоти.
«Маэстро, – его голос был ровным, безэмоциональным. – Вы опоздали на семь минут».
Алессия замерла. Сердце споткнулось и забилось чаще. Она никогда не опаздывала. Она всегда приходила на четверть часа раньше, чтобы подготовить палитру. Она бросила взгляд на большие напольные часы в углу. Он был прав. Семь минут ее жизни были украдены тревогой.
«Прошу прощения, ваша светлость. Утренний туман задержал гондолу», – солгала она, низко склоняя голову, чтобы скрыть вспыхнувший на щеках румянец. Ложь была ее броней, но сегодня в ней появились трещины.
Он ничего не ответил, лишь молча указал подбородком на мольберт. Приглашение к работе, звучавшее как приказ.
Алессия принялась за дело, двигаясь на автомате. Она сняла покрывало с холста, выдавила на палитру краски, смешала нужные оттенки. Ее руки, обычно такие послушные и точные, казались чужими. Пальцы были жесткими, непослушными. Кисть в них дрожала, едва заметно, но для нее эта дрожь была подобна землетрясению. Она взяла самую тонкую, из куньего волоса, чтобы прописать складку у его рта, и замерла. Она не могла. Не могла сосредоточиться. Перед глазами стояли не черты его лица, а слова из записки ростовщика: «Закат завтрашнего дня».
Она заставила себя сделать первый мазок. Линия получилась неуверенной, грязноватой. Она тут же счистила ее мастихином, оставив на холсте уродливый шрам. Внутри все похолодело. Этого никогда не случалось. Ее рука была продолжением ее глаза, ее воли. Сегодня она ей изменяла.
«Что-то не так с красками, маэстро?» – его голос прозвучал так близко, что она вздрогнула. Она не заметила, как он поднялся и подошел к ней. Он стоял за ее спиной, но она чувствовала его взгляд, прожигающий ее насквозь.
«Нет, синьор, – выдавила она, не оборачиваясь. – Просто… свет сегодня другой. Резкий. Он создает ненужные рефлексы». Еще одна ложь. Свет был идеальным. Мягким, рассеянным, именно таким, какой она любила.
Она снова попыталась нанести мазок, но рука не слушалась. Вместо тонкой, вибрирующей линии получился грубый, мертвый штрих. Проклятье. Она выругалась про себя, используя грубые слова портовых грузчиков, которым научил ее отец.
«Позвольте», – сказал Марко.
Два его пальца, холодные и твердые, легли на ее запястье, там, где бился пульс. Он не схватил ее, не сжал. Его прикосновение было легким, почти невесомым, но оно парализовало ее. Ее сердце, до этого колотившееся, как обезумевшая птица, на миг замерло, а потом забилось ровно и гулко, отдаваясь в его пальцах. Она чувствовала, как ее дрожь передается ему, как он читает ее страх через кожу, через бешеный ритм ее крови.
«Дело не в свете, – сказал он тихо, почти на ухо. Его дыхание коснулось ее волос. – Дело в руке. Она не уверена. Художник, чья рука теряет уверенность, либо болен, либо лжет. Вы не кашляете, и лихорадки у вас нет. Значит, вы лжете. Мне. Себе. Холсту».