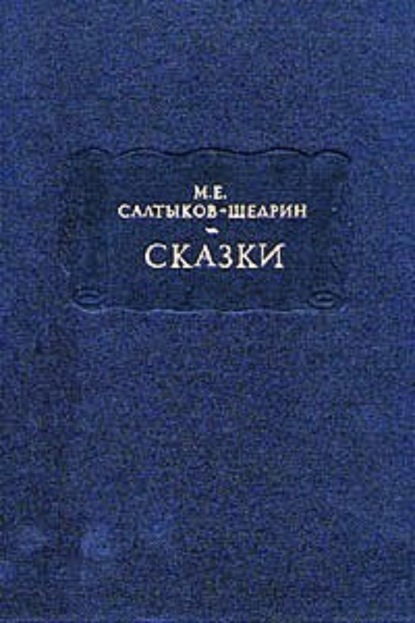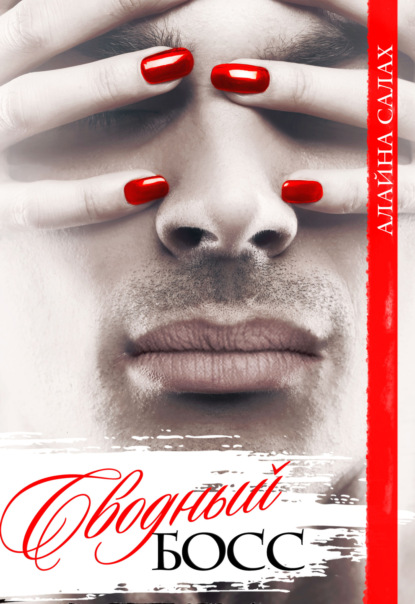Второй шанс прожить идеальную жизнь. Том 2. Конец повседневной жизни
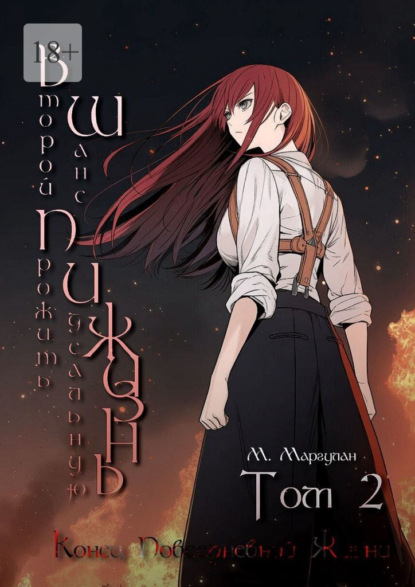
- -
- 100%
- +

© Маргулан Мынбол, 2025
ISBN 978-5-0067-6199-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог: №7
Часть 0Где… я?
Почему всё вокруг так… ярко?
Слепящий свет сковал мой взор, подобно молнии, навсегда запечатлевающей свой след в памяти. Я чувствовал, как он прожигает сетчатку, превращая попытки разглядеть окружающее в болезненную борьбу. Свет, пульсируя, обрушивался на меня, отбрасывая резкие блики, но постепенно тускнел, словно выдыхался, давая возможность очертаниям проявиться в густой пелене.
Передо мной медленно проступило пространство.
Что это? Детская площадка?
Пейзаж обрел четкость, и мои предположения подтвердились. Но это была не обычная игровая зона, а нечто странное, почти сюрреалистичное. Мир лишился привычной палитры. Все вокруг, включая землю, постройки и даже небо, окрасилось в монохром – будто передо мной ожили кадры старой киноленты. И всё же, несмотря на общее господство ахроматической гаммы, что-то выделялось.
Посреди этой площадки, словно выпав из контекста, играли дети. Их поведение казалось обыденным, но вот визуальная составляющая ломала логику восприятия. Среди них была группа, облаченная в одежду, обладавшую цветом – настоящим, насыщенным, как будто вырезанным из другой реальности. Таких детей оказалось пятеро. Остальные же – десятки неправильных, как я их мысленно окрестил, были полностью обезличены однотонностью, каждая черта их облика становилась безликой, расплывчатой.
Правильные дети выделялись не только цветами. Они, казалось, обладали осознанием себя, чего-то большего. Группируясь, они оживленно обсуждали что-то, хотя звуки их голосов так и не достигли меня. Словно некий звуковой барьер стоял между мной и этим местом.
Проверяя себя, я попытался заговорить, но горло словно наполнилось вязким, невидимым цементом. Вскоре я осознал, что моё тело парализовано. Тонкие, почти невесомые, но безжалостно сильные узы сковывали конечности, не позволяя ни двигаться, ни даже почувствовать напряжение мышц. Оставалась лишь способность наблюдать.
Место, где я оказался, производило впечатление гипертрофированного рая для детей. Протяженность площадки поражала масштабами: длинные горки и качели тянулись на десятки метров. В центре возвышался деревянный замок, украшенный мелкими деталями, от которых веяло антикварной эстетикой. Неподалеку громоздилось колоссальное дерево – гигант высотой не менее пятидесяти метров. В его густой кроне скрывался дом, словно выросший из древесной плоти, а к земле спускался трос, придавая всему ещё большую атмосферу сказочности.
Здесь нашлось место всему: от замысловатых лабиринтов до традиционных песочниц и каруселей. Всё выглядело так, будто проектировалось не архитекторами, а мечтами тысяч детей. Однако этот роскошный антураж не избавлял от ощущения чуждости происходящего.
Пока я пытался осознать, что за зрелище развернулось передо мной, группа правильных детей перестала вести беседу. Они выстроились в ряд, и один из них, явно выделявшийся среди остальных осанкой и уверенностью, шагнул вперёд. Его цель была ясна: он направился к неправильным детям.
Те, словно почувствовав приближение чего-то неизбежного, тоже собрались в небольшой круг и обменялись жестами. Примечательно, что один из жестов представлял собой лёгкий удар кулаками. После этого ритуала неправильные дети бросились врассыпную, рассеявшись по площадке, как опавшие листья под порывом ветра. Кто-то забрался на дерево, другие укрылись в замке, третьи исчезли в лабиринтах. В итоге правильные дети остались в одиночестве.
Прошло несколько минут. Молчание становилось почти осязаемым, пока тот, кто выступал инициатором, не поднял руку вверх – это стало сигналом. Разделившись, правильные дети начали методичный поиск. Четверо из них ринулись в разные направления, словно предвкушая охоту. Однако последний, пятый, остался на месте, стоя так неподвижно, что казалось, он превратился в статую.
Почему он остался? – этот вопрос зудел в моём сознании, но ответа не находилось.
Мир, в котором я оказался, был наполнен символами и намёками, но лишён объяснений.
Игра, которая до этого представляла собой смесь догонялок с элементами пряток, приняла неожиданно драматический оборот. Всё началось с того, что один из игроков, принадлежащий к категории так называемых правильных, обнаружил участника из неправильных и, вместо того чтобы просто обозначить факт обнаружения, ударил его. Этот инцидент стал катализатором конфликта, углубившего противостояние между двумя группами.
Точный повод для спора остался скрыт за завесой детских эмоций и недомолвок. Возможно, у каждой стороны была своя субъективная истина, подкреплённая доводами, которые казались им непоколебимо весомыми. С другой стороны, вероятна гипотеза, что одна из групп, руководствуясь импульсивным желанием найти виновного, уличила противника в нарушении правил. Дети нередко обижаются, если их замечают первыми во время игры в прятки, особенно когда конфликт охватывает столь масштабную аудиторию.
Удар, нанесённый правильным ребёнком, оказался не просто физическим актом, но и источником морального унижения. Упавший мальчик с зажатой рукой щекой остался сидеть на земле. Его глаза, в которых отразилась гамма чувств – обида, боль и удивление, – излучали тусклый свет, выдавая скрываемую борьбу со слезами. Его вздрагивающие плечи, хоть и не озвучивали его горе, ясно доносили его внутреннее состояние до наблюдателей.
Тревожный эпизод не остался незамеченным. Вокруг начался спонтанный сбор зевак. Один из неправильных подошёл к правильному обидчику и решительно его оттолкнул, защищая своего товарища. Это действие мгновенно подняло температуру происходящего: детская толпа расщепилась на два противостоящих лагеря. Правильные, численно уступавшие неправильным, всё же держались сплочённо, проявляя дух корпоративной солидарности, порой доходящий до агрессии.
Посреди шума и смуты выделился один из правильных. Девочка с твёрдым и решительным взглядом встала между группами. С поднятой головой, слегка перекрикивая разъярённых спорщиков, она властным голосом призвала к миру. Возможно, она сказала: Хватит! Прекратите это безумие! или нечто подобное. Моё скромное умение читать по губам не позволяет утверждать точно, но смысл её слов был более чем очевиден.
Её решительность на мгновение охладила страсти. Дети в недоумении замерли, словно неожиданно увидев в происходящем что-то невообразимо глупое. Но внезапно всё изменилось: мальчик, инициировавший раздор, бесцеремонно подошёл к девочке и с размаху дал ей пощёчину. Это был поступок не столько осмысленный, сколько продиктованный эмоциональным импульсом – жест необузданного негодования и уязвлённой гордости.
От удара девочка пошатнулась и рухнула на колени. Её глаза наполнились влагой, но железная воля не позволила слезам скатиться по щекам. Этот жест силы вызвал молниеносную реакцию. Ребята из неправильных, ещё недавно вовлечённые в разногласия, сразу пришли ей на помощь. В их сознании резко произошёл смещение приоритетов: прежние ссоры утратили всякое значение.
Главным виновником хаоса, как водится, оказался тот, чьи действия породили эскалацию конфликта. Только он мог бы дать объяснение своему поведению. Но поймёт ли он сам корень своих мотивов? Или разгадка его поступков навсегда останется тайной, скрытой в лабиринтах детской психологии?
На игровой площадке разыгрывалось невольное представление, больше похожее на социальную драму, где роли и мотивы участников обретали мрачный оттенок человеческой природы. В группе из восьми детей пятеро объединились против одного, в то время как трое других изо всех сил пытались защитить и оказать поддержку девочке, только что пережившей унизительный удар пощёчину.
Трое «правильных» детей, которые остались в стороне, холодно и, как показалось, совершенно безучастно взирали на происходящее. Их взгляды не выдавали ни тревоги, ни сочувствия, что наталкивало на мысль о своеобразной морали, оправдывающей бездействие. Возможно, они подспудно считали его заслужившим расплаты, ставя мнимую справедливость выше человеческого участия. Такая апатия порой сродни философской позиции стоического равнодушия, лишь искажённого детским восприятием.
Главный виновник возникшего хаоса, теперь преследуемый толпой неправильных, метался по обширной площадке, обессиленный попытками ускользнуть от своих преследователей. Казалось, пространство этой площадки, столь знакомое каждому ребёнку, вдруг приобрело новые измерения – неизбывность и беспощадность. Но беглецу, лишённому запаса сил, был уготован финал: он рухнул, не выдержав натиска.
Те, кто вёл погоню, тоже были на пределе физических возможностей. Но осталась малая горстка, что направила свои усилия на помощь девочке, чей недавний удар в корне изменил расстановку сил. Эти неправильные дети проявили неожиданную заботливость, в то время как другие, достигнув своей цели, нанесли ещё один удар теперь уже по поверженному лидеру.
И что удивительно – он не заплакал. Его выдержка напоминала упрямство камня под шквалом бури. Более того, он даже нашёл в себе силы дать отпор, но силы эти оказались исчерпанными – он вновь упал. Все его усилия, направленные на защиту своего достоинства, разбивались о предельность человеческого ресурса. Как бы ни хотел он выстоять, возраст и физическая природа – восемь или девять лет – были неумолимы.
Когда нападающие отошли от измученного мальчика, к нему подошла девочка, ставшая причиной столь драматичных событий. Она склонилась над его упавшей фигурой и позволила себе тихий, почти неуловимый смех – звук, отдающийся звоном внутреннего торжества. Её взгляд был наполнен лёгкой, но осязаемой триумфальной насмешкой.
На другом конце противостояния трое правильных детей предприняли вялую попытку защитить свои позиции, но численное превосходство противников, подкреплённое их новым лидером в лице девочки, делало любое сопротивление тщетным. Они казались раздавленными ситуацией, обречёнными на поражение в этом импровизированном социологическом эксперименте.
Неожиданно девочка обратилась к неправильным, благодарственно кивнула и холодно усмехнулась. Эти дети, более интуитивные, чем казалось, с молчаливым согласием признали её новым лидером. Вопрос почему оставался витающим в воздухе, отягощённым множеством непроизнесённых догадок.
Возможно, весь этот хаос изначально был не хаосом, а аккуратно спланированной операцией. Махинация, мастерски использующая концепцию провокации и управления кризисом. Девочка, предвидя реакцию детей, словно играла на клавишах их импульсов, разжигая антагонизм и разобщённость между группами. Она знала, что эмоциональная турбулентность выведет детей из равновесия, и воспользовалась этим как рычагом для достижения собственной цели.
Возможно, она понимала, что конфронтация не приведёт к простому равновесию, а сама станет поводом для окончательного пересмотра ролей. И она не ошиблась. Стоило ей сделать шаг вперёд, как неправильные, мотивированные её якобы благородным жестом, инстинктивно приняли её лидерство. Метафора, пожалуй, сродни «равновесию Нэша»1 в теории игр: её действия оптимизировали ситуацию в её пользу, вынудив других игроков подчиниться.
И вот теперь прежняя сила правильных исчерпана, их фронт разрушен, а девочка, шагнувшая за пределы манипулятора, оказывается на вершине импровизированной иерархии. Такой ли цели она добивалась с самого начала? Или её план, как и сама история, подвергся адаптивной коррекции? Ответ на этот вопрос остаётся неясным, погружая происходящее в область гипотетического анализа.
Невероятно. Как могла одна девочка сплести столь сложную интригу? Её внешняя мягкость – обманчивое прикрытие, за которым скрывался расчетливый стратег, сродни демонологии человеческой природы.
Ключом к её успеху стало мастерство психолингвистической манипуляции: используя слабости неправильных детей – их природную внушаемость и потребность в принятии, – она сумела проявить одновременно псевдосочувствие и артистическую демонстрацию уязвимости. Лишь несколько умело выпущенных слёз, и дети, вдохновлённые ее кажущейся искренностью, приняли её в свои ряды, причислив к «своим».
С начала конфликта правильные дети превосходили оппонентов как физически, так и морально. Они отличались повышенной выносливостью, интуитивным чувством справедливости и индивидуальными навыками, которые могли бы склонить чашу весов в их пользу. Но этого было недостаточно. Несмотря на количественное превосходство неправильных, именно умственные и социальные манёвры девочки превратили ситуацию в этюд асимметричной коммуникации.
Её способности изящно примирять антагонистов через хитрость и интуитивное предвидение напоминали стратегические действия мастеров переговоров. Будучи по возрасту всего лишь восьмилетним ребёнком, её интеллект сочетал аналитическую прозорливость и прагматичную адаптивность, свойственную взрослым. Неужели её гений возник исключительно на фоне ситуативного напряжения? Или, возможно, она была рождена с умом, напоминающим феномен савантизма2, при котором определённые области когнитивной деятельности развиты на уровне гениальности?
Она мастерски применила свои таланты для достижения главной цели – абсолютного доминирования. Вместо силы она противопоставила тонкие социальные механизмы: корректную трактовку когнитивных искажений в сознании детей, минимизацию когнитивного диссонанса и активную эксплуатацию реципрокности (механизма социальной взаимности).
Но её манёвры показали двойственную природу интеллекта: таинство гения и опасность высокомерного манипулятора. Хотя девочка и выстроила стратегию искусного лидерства, соблазн великодержавной эгоцентричности заставил её переоценить своё превосходство. Это был утончённый пример искажения, известного в социальной психологии как эффект Даннинга—Крюгера.3
Принимая её за «богиню» арены, неправильные дети поклонялись ей без оглядки. В их глазах она воплощала авторитет, которого они не могли достичь ни сами, ни через других. Подобно монарху в детском королевстве, она стала объектом слепого следования, её слова воспринимались как аксиомы.
Девочка виртуозно управляла своим миниатюрным обществом, подобно лидерам древних полисов, задававшим рамки допустимого. Но было ли это благородство? Или же это было искусство манипуляции ради манипуляции, отражающее дерзкую игру в обман? Как и в мире взрослых, детям часто свойственно поддаваться влиянию более развитого разума, без осознания долгосрочных последствий.
Тогда, казалось, ничто не могло поколебать её власть. Но с правильными детьми всё оказалось сложнее. Они противостояли её указам с упрямством, характерным для тех, кто руководствуется личной моральной осью. Их когнитивные способности превосходили уровень сверстников, и, хотя хитрость девочки заставляла их временами подчиняться, они сохраняли внутреннее сопротивление.
В решающий момент конфликта, в который были вовлечены двое мальчиков и две девочки, главный нарушитель – тот самый мальчишка, оказавшийся жертвой избиения, – был серьёзно травмирован. В итоге, остальным детям ничего не оставалось, кроме как смиренно склониться под напором хитрости, подкреплённой численным превосходством неправильных.
Однако вскоре ситуация приобрела новые, неожиданные очертания. Несколько детей – заговорщиков – начали сговариваться против своей самопровозглашённой «королевы». Их действия напоминали контринтригу: своего рода заговор при дворе, где позиции подчинённых пересматриваются, а лидер оказывается в уязвимом положении.
И хотя итог их действий скрыт туманом детской тактики, очевидно, что эта история – напоминание о нестабильности любой системы, основанной на манипуляции. Такие, как она, либо рушатся под собственным весом, либо переосмысляют свою роль в системе, где каждый шаг проверяется балансом сил.
После свержения лидера, тех, кого она называла своими войсками – неправильных детей, отчаянно отвергнутых этим миром, – внезапно охватило необузданное буйство. Она была первой, кто предложил им руку помощи, единственной, кто помог выстроить диалог в хаосе их противоречий. Но они ошиблись, приняв иллюзию за истину.
Несмотря на численное превосходство неправильных, вероятность их победы в физическом противостоянии оставалась незначительной. Однако в интеллектуальной дуэли их противники, правильные дети, обладали безусловным доминированием – стратегическим арсеналом, способным повернуть исход любой битвы.
Для увеличения шансов на успех правильные решили разделиться на группы, равномерно распределяя силы. Каждый из них, не более чем десятилетний ребёнок, должен был противостоять двоим из неправильных, заманивая их на свою территорию. Кто-то выбрал стратегически расположенный замок, кто-то скрывался среди закоулков горок, а кто-то запечатлел свою волю в кроне дерева.
В этой игре почти не осталось участников: две девочки и два мальчика, но они ставили на интеллектуальные капканы, а не на грубую силу. Хитроумные ловушки, простые по конструкции, но искусно применённые, сослужили им добрую службу. Даже те, кто воспринимались как виновники всего хаоса, становились частью этой шахматной доски, руководимой кем-то извне.
Спустя непродолжительное ожидание четверо триумфаторов вышли из своих засад с блистающими от гордости лицами, доказав, что их победа не просто была случайностью. Их умственные способности, мастерство стратегического мышления и приверженность цели завораживали.
Я наблюдал за их действиями всё это время, но так и не смог понять, какова моя роль в происходящем. Где я нахожусь? Кто я? Эти вопросы пронизывали меня, словно эхолокация сканировала пространство разума.
Я лишён воспоминаний – всё, что осталось, это мозаика отрывочных мыслей. Сущность моя, казалось, эфемерна, лишённая материального воплощения. Я – пульсирующий поток идей, поглощённый экзистенциальным анализом, витающий в просторах собственной абстракции.
Кто я?
Блуждая в лабиринтах самопознания, я осознал кризис идентичности: непрекращающееся сомнение в своём «я». Возможно, я не более чем мыслеобраз, который обманул сам себя, приняв иллюзию за реальность. Но мысль имеет удивительное свойство – формировать самостоятельную личность. Личность, неспособную выйти за пределы собственного восприятия, чтобы понять или объяснить нечто большее.
Как и в грандиозной пьесе, каждый становится свидетелем некой эпопеи, неподвластной его влиянию. Но, являясь простым зрителем, мы учимся извлекать уроки из чужих побед и ошибок, переосмысливая увиденное.
Кто я? Что я получил из этой вселенской игры?
Ответ ускользает. Но быть зрителем – значит также анализировать, находить глубинные взаимосвязи, видеть тайные смыслы, сокрытые в поступках.
Тут меня отрывает внезапное изменение в атмосфере: детская площадка, с её кипучей энергией, замирает. Дети исчезли, словно растворились в утреннем тумане.
На их месте появились другие – новые. Они были совсем детьми, которых привели молчаливые взрослые, исчезнувшие столь же таинственно, как и предыдущие герои этой сцены. Игра возобновилась, но на этот раз участники демонстрировали нечто необъяснимое.
У каждого появилось своеобразное свечение: один лучился жёлтым светом, другой алел, третий был окутан фиолетовым сиянием, четвёртый – серебристым, последний же, угольно-чёрным, создавая перфектную антитезу своим спутникам. Эти световые импульсы казались диссонансными, пока в один момент не слились в некое голографическое гармоническое целое, образовав аккорд из пульсирующей энергии.
Внезапная вспышка света окутала меня непроницаемым коконом. Я стоял обездвиженный, лишённый ориентиров. Когда всё стихло, и мой взор вновь начал различать очертания, детской площадки уже не существовало. Всё вокруг покрывала только тишина и следы ушедших эмоций.
Теперь остались лишь воспоминания и осознание того, как много в мире остаётся сокрытым от даже самого зоркого наблюдателя.
Что это? Силуэт?.. Человека? – задал я себе вопрос, в котором отчётливо читались тревога и некий первобытный трепет.
Передо мной возникло существо, обладавшее антропоморфными контурами, но лишённое лица, деталей телесного образа или какой-либо уникальной конкретизации. Это было нечто эфемерное, словно сама сущность тени, обрамлённая пустотой. Впрочем, необъяснимый магнетизм притягивал меня к этому силуэту. Казалось, это была недостающая часть моего я, способная восполнить пустоту моего существования, вернуть утраченный гештальт.
Существо протянуло мне нечто, напоминающее руку – лишь грубый намёк, подобие этого органа. Оно не произнесло ни слова, но движение было резким, почти приказывающим, как будто существо желало, чтобы я встал, покинул свой нематериальный покой.
Но как я мог это сделать? Я был лишь мыслью, оторванной от какого бы то ни было вещественного измерения. Я – парящий в пространстве психического сигнала кластер. Как я могу обрести способность двигаться? Как мне покинуть эту ментальную тюрьму?
Существо продолжало стоять, непоколебимо держа свою руку передо мной. Когда я подумал, что его терпение на исходе и оно исчезнет, будто пылинка на солнечном луче, тишину прорезал голос. Этот голос был многослойным, он эхом дробился на спектр частот, подобно диссонансным гармоникам звукового синтезатора:
– Ты не обретёшь подлинной свободы, пока не освободишь своё исконное я от контекста, навязанного тобой другими. Лишь очистившись от оков чужих концептов, ты сможешь уверенно подняться и сделать первый шаг к судьбе, уготованной тебе природой.
Слова существа, полные величия и загадки, отозвались внутри меня гулким резонансом, как струна, подхваченная неведомой энергией. Но их смысл оказался столь же ускользающим, как ледяная капля, что мгновенно тает на ладони.
В этот миг неуловимый порыв воздуха, похожий на фантомный, пронзил меня, пронёсшись подобно полю иррациональной воронки. Я ощутил смутное движение, но ничего не видел вокруг, кроме бездны пустоты. А затем и силуэт исчез, словно рассеявшись в небытии, оставляя меня в удушающем одиночестве.
Одиночество… Как давно это понятие поселилось в моём существе? Оно звучало для меня не просто как концепция; это был фундамент, резонирующий на уровне каждой клеточной частицы моего бытия. Этот резонанс заполнял не гневом, но мощной энтропией ощущений, больше всего напоминающей какую-то скрытую форму меланхолии.
Смутные проблески прозрения внезапно коснулись моего сознания, но не открылись в своей полной ослепительности. Это было подобно недоступному гиперобъекту – чему-то огромному, необъятному, что невозможно обойти разумом. Я чувствовал лишь тени знаний, контур которых исчезал, едва стоило попытаться ухватить суть.
Эти мысли оставляли меня в раздрае: вспышки догадок ослепляли, но вместо света оставляли за собой густую, вязкую темноту – бездну незнания. Было ощущение, что они проникают сквозь меня, словно сверхновая вспышка пронзает космос, озаряя вселенную лишь на мгновение.
И вдруг – словно ток прошёл сквозь мою суть, – я произнёс слова, которых сам от себя не ожидал:
– Я… номер семь.
Эти два слова, вырвавшиеся из меня, словно архетипический зов из глубин коллективного бессознательного, запечатлелись в каждой частице моего осознания. Они стали частью моего личного когнитивного простора, основой нового фундамента восприятия. Я не знал, что это значит. Но знал одно: смысл где-то здесь, рядом, на расстоянии неуловимой искры.
Глава 1. Пустоцвет
Часть 0Я слышал странный, но мучительно знакомый голос. Этот тембр, проникая глубоко в сознание, пробуждал в душе нечто первобытное и болезненное. Казалось, он был соткан из печали, что расплывалась в воздухе едва уловимыми волнами. Этот голос был таким душераздирающим, что я невольно ощущал желание подойти ближе и заключить в объятия того, кто так надрывно, так истово и скорбно рыдал.
Помимо голоса, отчётливо прорывались всхлипы, словно разбиваясь о мои барабанные перепонки. Они звучали так звонко и пронзительно, будто сами слёзы стекали вдоль моего сознания.
– …прошу… – Словно эхо, голос обрывался в полутишине. – …не умирай снова…
Снова? – Мелькнула мысль. – Не умирай? А я разве умирал?
Моя память была окружена зыбкой пеленой, тягучей, как густой туман. Стоило сделать попытку прикоснуться к воспоминаниям, как эта невидимая завеса вызывала едва уловимое, но мучительное ощущение утраты. Казалось, вот-вот – и я утону в этих зыбких образах, захлебнусь и больше никогда не смогу подняться на поверхность сознания. Я едва улавливал собственные мысли. Должен ли я их слышать?