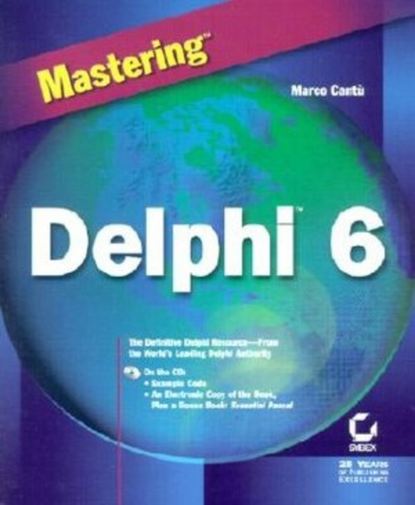Второй шанс

- -
- 100%
- +
Он навещал Милана. Видел, как тот скитается по палате, словно призрак, как его взгляд, прежде прямой и, наверное, твердый (Марк представлял его за баранкой грузовика), теперь стал расфокусированным, устремленным куда-то внутрь, в бездну собственной катастрофы. Видел тщетные попытки сжать правую руку, гримасу боли и отчаяния, сменявшуюся апатией. Видел Бояну, жену Милана, чьи глаза, измученные заботами и страхом за будущее, уже не искали в лице доктора надежды, а лишь констатировали факт присутствия. Однажды, меняя повязку, Марк не выдержал молчания.
– Как рука? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, профессионально, а не как эхо из колодца его собственной пустоты.
Милан вздрогнул, словно разбуженный. Взгляд его медленно сфокусировался на хирурге.
– Рука? – он произнес слово с горькой иронией, словно речь шла о чужой конечности. – Она… есть. Висит. Как гиря ненужная. Боль… боль тоже есть. Постоянная спутница. Как память о том мосте. – Он замолчал, уставившись в окно на вечно хмурый питерский пейзаж. – Доктор… а тот? Тот парень? В легковушке?
Марк почувствовал, как камень внутри сдвинулся, надавив на что-то болезненное.
– Давид Дронов? Он… поправляется. Отдельная палата. Лучшие специалисты.
Милан кивнул медленно, будто ожидал именно этого.
– Богатый. Папа богатый. – Не вопрос. Констатация. – Он… заплатит? Хотя бы за лечение? За то, что я… – Он не закончил, махнув левой, здоровой рукой. Жест был красноречивее слов: за то, что я теперь – это?
Марк опустил глаза на безупречно белую повязку.
– Есть страховка. Она покроет основное лечение. Остальное… – Он запнулся. Как объяснить этому человеку, с его мозолистыми руками и простыми понятиями о справедливости («сломал – плати»), что существует целая вселенная адвокатских уловок, отсрочек, экспертиз, где «вина устанавливается», а «моральный вред» – абстракция для судейских мантий? -Остальное… это долгий процесс, Милан. Нужны адвокаты, суды…
– Адвокаты стоят денег, – тихо, но с убийственной точностью вставила Бояна, стоявшая у изголовья. В ее глазах не было упрека Марка. Была лишь усталая, ледяная ясность женщины, знающей цену всему, особенно – цене отчаяния. – Нам их не нанять. Нам бы на хлеб…
Тяжесть камня стала невыносимой. Марк быстро закончил перевязку, пробормотал что-то обнадеживающее насчет реабилитации (слова казались фальшивыми даже ему самому) и вышел из палаты. Воздух коридора, пропитанный запахом антисептика и болезней, вдруг показался ему густым, удушливым. Он чувствовал на себе взгляд Бояны – взгляд, в котором не было надежды, только знание. Знание того, что его мастерство, его подвиг у операционного стола, были лишь отсрочкой перед неизбежным крахом их маленького мира. Крахом, к которому он, Марк Долвинов, спаситель жизней, не имел никакого отношения, кроме как констатации его начала. Бессилие медицины. Бессилие его личного мастерства. Оно обретало чудовищные, конкретные очертания в лице Милана и его семьи.
Тяжесть эта сопровождала его домой, в квартиру, которая когда-то была его крепостью, его пристанью. Теперь она казалась слишком яркой, слишком… обыденной. Запах ужина, который готовила Альбина, его Алечка, с ее теплыми, как спелый персик, глазами и тихим юмором, раньше согревал его после самых адских смен. Теперь он лишь напоминал ему о другой кухне, на окраине, где пахло не борщом с любовью, а страхом и безнадегой. Кира, его солнышко, выбегала ему навстречу, как всегда, с восторженным криком: «Папа!». Раньше он подхватывал ее, кружил, зарывался лицом в ее детские волосы, вдыхая запах невинности и жизни. Теперь… теперь он лишь наклонялся, обнимал ее одной рукой, стараясь не встречаться глазами, боясь, что она увидит в них ту самую пустоту, что глядела на него из глаз Давида Дронова в больничном коридоре. Пустоту, которая теперь была и его уделом.
– Пап, смотри, что я нарисовала!» – Кира протягивала лист бумаги с яркими, хаотичными мазками. «Это больница! Ты спасаешь людей! Вот ты, вот больной, вот… вот ангел над тобой!
Марк взял рисунок. Рука не дрогнула. Профессиональная твердость. Но внутри что-то сжалось в ледяной ком. Ангел. Над ним. Над тем, кто чувствовал себя не ангелом-спасителем, а жалким фокусником, умеющим лишь на время обмануть смерть, но бессильным перед системой, калечащей жизни куда эффективнее любой болезни. Он не видел на рисунке своего триумфа. Он видел Милана на операционном столе. Видел его бесполезную руку. Видел Бояну с глазами полными немого вопроса: «Зачем?»
– Красиво, солнышко, – выдавил он, целуя Киру в макушку. – Очень красиво. – Голос звучал чужим, плоским.
Альбина, наблюдая со стороны, поставила кастрюлю на стол чуть резче, чем нужно. Звук был негромкий, но красноречивый. Она чувствовала. Чувствовала эту пропасть, которая зияла между ними, ширилась с каждым днем. Чувствовала, как муж, всегда такой ясный, целеустремленный, уверенный в своем месте в мире, уходит куда-то в себя, в какую-то темную пещеру, откуда не доносилось ни звука, только холод.
Несправедливость материализовалась через неделю. Марк задержался, заканчивая историю болезни. Выйдя из своего кабинета, он услышал приглушенные, но уверенные голоса у главного входа. Голоса, лишенные той ноты тревоги, боли или усталости, которая была фоном больничной жизни. Голоса, звучавшие так, будто их обладатели находились не в храме страданий, а в своем законном владении. Интуиция, та самая, что спасала жизни у операционного стола, сжала ему горло ледяными пальцами. Он замер в тени колонны.
У входа стоял он – Виктор Дронов, отец Давида. Не просто богатый человек. Владелец. Владелец заводов, газет, пароходов, а главное – владелец ситуаций. Высокий, подтянутый, в безупречном пальто цвета воронова крыла, которое, казалось, отталкивало не только дождь, но и саму атмосферу больничной беды. Рядом с ним – человек в строгом костюме, вероятно, адвокат, с кожаным портфелем, набитым не лекарствами, а бумагами, способными изменить судьбы. А напротив них – главный врач, Валерий Александрович, человек обычно непоколебимый, сейчас выглядел… подобострастным. Его осанка, его жест, которым он указывал на выход – все говорило о предельной, почти унизительной вежливости перед силой, которую олицетворял Дронов.
– …бесконечно благодарен за вашу заботу, Валерий Александрович, – доносился бархатистый, спокойный голос Дронова-старшего. – Давид поправляется, это главное. Конечно, шок, переживания… Но молодость, лучшие врачи, – он слегка кивнул в сторону Марк, не видя его в тени, но словно чувствуя присутствие Силы, которой он заплатил, – делают свое дело. Мы везем его сегодня в Швейцарию. Полное обследование, реабилитация в лучших условиях. Наш долг – дать ему все шансы забыть этот… неприятный инцидент.
Инцидент. Слово прозвучало, как пощечина. Для Милана – конец жизни, как он ее знал. Для Давида – «неприятный инцидент», который нужно «забыть» в швейцарском санатории.
– Совершенно верно, Виктор Витальевич, – закивал главврач. – Лучшее решение. Забота о психике молодого человека крайне важна.
– Разумеется, – продолжил Дронов, и в его голосе появились стальные нотки. – Что касается… материальной стороны вопроса. Все счета за лечение Давида, разумеется, будут оплачены немедленно и в полном объеме. Мы ценим ваш труд. Также, – он сделал едва заметный жест адвокату, тот открыл портфель, – как знак нашей глубокой признательности всему персоналу, кто участвовал в спасении сына, наш Фонд перечисляет больнице «Милосердие» пожертвование. На развитие отделения нейрохирургии, кажется? – он уточнил у адвоката.
– Да, Виктор Витальевич. Сумма указана здесь. – Адвокат протянул конверт главврачу.
Валерий Александрович взял конверт с почти религиозным трепетом.
– Виктор Витальевич… Это… это невероятно щедро! От всего коллектива…
– Пустяки, – отмахнулся Дронов. – Мы должны поддерживать тех, кто стоит на страже здоровья. Особенно когда речь идет о жизни наших детей. – Он поправил перчатку. Голос его стал суше, деловитее. – Теперь о другом деле. Этот… водитель грузовика. Драганович? Его состояние, как я понимаю, стабилизировано?
Марк замер, вжавшись в холодный камень колонны. Камень внутри него пульсировал ледяным огнем.
– Да, да, – поспешно ответил главврач. – Благодаря мастерству доктора Долвинова. – Конечно, последствия тяжелые…
– Естественно, – перебил Дронов. – Трагическая случайность. Наши юристы свяжутся с ним. Страховка покроет необходимое лечение. Мы также готовы оказать… гуманитарную помощь. Единовременно. Чтобы облегчить период нетрудоспособности. К сожалению, – голос Дронова стал гладким, как лед, – признать нашу прямую вину или ответственность за степень его травм юридически некорректно. Суды затяжны, изматывающи для всех сторон. Мы предлагаем разумный выход. Человеческий подход.
Гуманитарная помощь. Единовременно. Разумный выход.
Слова висели в воздухе, как ядовитый газ. Это был не выход. Это был откуп. Подачка, чтобы замять дело, чтобы Милан не рыпался. Чтобы «неприятный инцидент» был окончательно забыт. Цена сломанной жизни, сломанной семьи – конверт с «гуманитарной помощью» и уверения в отсутствии «прямой вины».
– Да, да, конечно, Виктор Витальевич, – забормотал главврач. – Человеческий подход… это самое важное в таких ситуациях.
Дронов кивнул, удовлетворенный.
– Рад, что мы понимаем друг друга, Валерий Александрович. Наш автомобиль ждет. Прощайте. И еще раз – благодарю. – Он пожал руку главврачу с видом монарха, милостиво одаривающего подданного, развернулся и вышел в моросящий питерский вечер, сопровождаемый адвокатом. За ними выкатился дорогой лимузин, поглотив их, как проглотил бы легковушку Милана его грузовик, не сверни тот в последний момент.
Марк стоял, прикованный к месту. Он не видел уходящего лимузина. Он видел лицо Милана, когда тот спросил: «Он… заплатит?». Видел глаза Бояны, полные ледяного знания: «Нам бы на хлеб». Он слышал бархатный голос Дронова: «Гуманитарная помощь. Единовременно». И голос главврача: «Человеческий подход». В его ушах стоял грохот – не металла о металл, а ломающихся костей чьей-то веры. Веры в справедливость. Веры в то, что его труд, его знания, его готовность бороться за каждую каплю крови – что-то значат в этом мире. Мир показал ему свое истинное лицо: холодное, расчетливое, где жизнь одного – «неприятный инцидент», а жизнь другого – товар, который можно оплатить по минимальному тарифу и забыть. Медицина? Она была лишь служанкой этой системы. Он, Марк Долвинов, с его скальпелями и знаниями – лишь винтик в механизме, который безжалостно перемалывал таких, как Милан, и оберегал таких, как Давид Дронов. Его мастерство было бессильно против денег. Бессильно против цинизма. Бессильно против этой всепоглощающей несправедливости.
Камень внутри стал таким тяжелым, что Марк едва не рухнул на колени. Он прислонился лбом к холодной поверхности каменной колонны. Шероховатость камня была реальной, осязаемой. В отличие от всего остального. От его веры. От его смысла. От его силы. Он чувствовал, как что-то рвется внутри, не физически, а духовно. Как лопаются последние нити, связывающие его с профессией, с его миссией. Зачем спасать тела, если души уже давно проданы или раздавлены? Зачем бороться за жизнь, которая потом будет оценена в жалкую «гуманитарную помощь»? Гнев, яростный и беспомощный, бурлил в нем, но не находил выхода. Он упирался в ту же стену бессилия, что и Милан. Только стену эту возвели не травмы, а система. Система, где деньги были единственной истинной валютой, а справедливость – роскошью для избранных.
Он не помнил, как добрался домой. Квартира встретила его теплым светом и запахом жареной курицы. Альбина накрывала на стол. Кира возилась с куклами. Картина уюта, мира, ради которого он жил и работал. Но сегодня она не согревала. Она резала глаза своей нормальностью, своей… ложью. За этим уютом стояли тысячи Миланов и Боян, сломленные системой, о которых «гуманно» забывали. Он стоял в прихожей, не в силах снять пальто, не в силах сделать шаг навстречу этому теплу, которое вдруг стало казаться предательством по отношению к тем, у кого этого тепла отнимали.
– Марик? Ты как? – голос Альбины прозвучал осторожно, настороженно. Она подошла, хотела помочь снять пальто.
Он резко отшатнулся.
– Не надо!
Она замерла, удивленная, раненная.
– Марик? Что случилось? Опять тяжелый день?
– Тяжелый? – он засмеялся, и смех прозвучал сухим, как треск ломающихся костей. – Да нет, Аль. Обычный. Как всегда. Спас одного. Узнал, что другого «гуманно» отправили в Швейцарию забывать «инцидент». А того, первого, отблагодарят «единовременной помощью». Все по плану. Все прекрасно. Он говорил с горечью, которая клокотала в нем, как яд.
Женщина нахмурилась.
– О чем ты? О той аварии? Марик, ты сделал все, что мог! Ты спас того водителя!
– Спас? – он повернулся к ней, и в его глазах горел тот самый холодный огонь бессилия. – Я починил разбитый механизм, Аля! Починил так, что он больше не может работать! Не может кормить семью! А те, кто разбил его… они умыли руки. Заплатили страховку. Дадут подачку. И все. Спас? Я продлил его агонию! Его и его семьи! – Голос его сорвался. Он видел, как Кира испуганно прижала куклу к груди, глядя на него большими глазами.
– Марик, успокойся, – тихо сказала Альбина, пытаясь взять его за руку. – Ты несешь чушь. Ты устал. Слишком много берешь на себя. Ты не Бог, чтобы вершить высшую справедливость! Ты врач. Ты спасаешь жизни. Это твоя работа. Это твой дар!
– Дар? – он вырвал руку. – Дар, который ничего не стоит перед деньгами! Дар, который бессилен перед системой! Я чувствую себя… шутом. Который прыгает, старается, спасает, а хозяева жизни просто щелкают пальцами и стирают последствия. Как стирают пыль! – Он схватился за голову. Камень внутри давил на виски, вызывая тупую боль. – Зачем? Зачем все это? Зачем я режу, шью, борюсь? Чтобы в итоге победили они? Дроновы этого мира? Чтобы справедливость была лишь словом в их дорогих словарях?
– Марк, пожалуйста, – в голосе жены прозвучали слезы. – Не говори так. Ты не виноват в том, как устроен мир! Ты делаешь то, что можешь! Это важно! Это… – Она искала слова.– Это свет! Твой свет!
– Мой свет? – он посмотрел на свои руки. Руки, которые сегодня утром провели сложнейшую операцию. Руки, которые были инструментом жизни. Теперь они казались ему чужими, бесполезными. – Мой свет гаснет, Алечка. Его задувает ветер их денег. Их безнаказанности. Я… я больше не чувствую в этом смысла.
Голос его упал до шепота. В нем не было злости. Только бесконечная, всепоглощающая усталость. Усталость от бессилия. От понимания. От тяжести камня, который он теперь носил вместо сердца.
Он не стал ужинать. Прошел мимо накрытого стола, мимо испуганных глаз Киры, мимо растерянного, полного немой мольбы взгляда жены. Зашел в кабинет – маленькую комнату с книгами по медицине, дипломами, фотографиями его триумфов и семейного счастья. Теперь эти свидетельства его прежней жизни смотрели на него как обвинители. Он сел в кресло у темного окна. За стеклом лил питерский дождь, отражая огни города – города, который принадлежал Дроновым и им подобным. Города, который безжалостно перемалывал Миланов.
Депрессия – это не только грусть. Это погружение в безвоздушное пространство собственной души, где нет света, нет надежды, только давящая тяжесть небытия. Марк погружался в нее стремительно, как в черную дыру. Каждый довод рассудка («ты спасаешь жизни!», «ты нужен семье!», «ты не можешь изменить систему!») разбивался о каменную стену его нового знания: его дар бессилен против истинных сил, правящих миром. Денег. Власти. Цинизма. Он чувствовал себя не просто бесполезным. Он чувствовал себя соучастником. Соучастником этой системы, которая использовала его мастерство для видимости «спасения», оставляя суть проблемы – несправедливость – нетронутой.
Альбина заглянула в кабинет поздно ночью. Он сидел все в том же кресле, в темноте, не двигаясь. Силой она заставила его лечь в постель. Он лег. Лежал, глядя в потолок. Рядом дышала его жена – теплое, живое, любящее существо. Но пропасть между ними была уже так широка, что ее дыхание казалось ему доносящимся с другого берега океана. Он не мог переплыть. У него не было сил. Камень тянул его ко дну.
На следующее утро он позвонил главврачу. Голос его был ровным, монотонным, лишенным всех прежних интонаций – уверенности, усталости, даже горечи. Просто ровным, как линия смерти на кардиограмме.
– Валерий Александрович. Это Долвинов. Я беру отпуск. Длительный. По состоянию здоровья. На неопределенный срок. Все текущие дела передаю Крутову. Да. Нет, ничего серьезного. Просто… выгорание. Да. Спасибо.
Он положил трубку. Состояние здоровья. Душевное здоровье. Оно было подорвано. Разрушено. Несправедливостью, которую он наблюдал. Бессилием медицины – его медицины – перед властью денег. Тяжесть камня в груди стала его единственной реальностью. Мир за окном, мир больницы, мир его семьи – все это превратилось в туманный, далекий сон. Марк Долвинов, блестящий нейрохирург, спаситель жизней, сделал свой первый шаг в бездну отречения. Шаг, продиктованный не слабостью, а сокрушительной силой осознания: иногда спасти невозможно. Иногда единственное, что остается – это нести свой камень. В одиночестве. В тишине. В полной, беспросветной темноте надвигающейся депрессии. Ткань его мира истончилась до предела, и сквозь щель смотрела не Судьба-архивариус, а холодная, безразличная Пустота.
Глава 4
Тишина после бури – не всегда умиротворение. Иногда это вакуум, высасывающий последние соки жизни, оставляющий после себя лишь хрустальную пустоту, звонкую и ранящую. Такую тишину принес Марк Долвинов в свой дом, вытеснив ею прежние звуки – смех Киры, шелест страниц романа Альбины, журчание кофеварки, даже собственные шаги, ставшие теперь призрачными скольжениями теней по паркету. Отпуск, взятый «по состоянию здоровья», растянулся в бесформенную, серую субстанцию времени, лишенную границ и смысла. Камень, что поселился в его груди после истории с Дроновыми и Миланом, не растаял. Он кристаллизовался, оброс новыми, острыми гранями бессилия, превратившись в черную звезду, погасшую, но продолжающую притягивать к себе весь мрак мира.
Он больше не стоял у окна ординаторской, наблюдая, как дождь бьет кулаками по асфальту Питера. Теперь он стоял у гостиного окна их квартиры, смотря на тот же дождь, но видя сквозь него лишь искаженные отражения собственного падения. Город за стеклом кипел жизнью, торопился, сталкивался, страдал и радовался – огромный, неумолимый организм. А он, Марк, бывший бог в белом халате, некогда способный дирижировать симфонией жизни на операционном столе, теперь был лишь выброшенной клеткой, амебой, застрявшей между мирами, не принадлежащей ни одному из них. Его мир сузился до размеров квартиры, а затем и до пределов его собственного черепа, где эхом гудели слова Дронова: «Гуманитарная помощь. Единовременно. Неприятный инцидент».
Альбина наблюдала за этим распадом, как врач наблюдает за неумолимой болезнью любимого человека, зная диагноз, но не находя лекарства. Ее Марк, ее якорь, ее гора, рассыпался на глазах, превращаясь в холодный пепел. Она пыталась пробиться к нему сквозь возведенную стену. Сначала – осторожно, как к раненому зверю.
– Марик, солнце сегодня… – начинала она утром, подходя к нему у окна, протягивая чашку кофе, которую он брал автоматически, не чувствуя ни тепла фарфора, ни аромата. – …проглянуло сквозь тучи. Как помнишь, в тот день, когда мы купили Кире того плюшевого медведя? Она тогда так смеялась…
Он лишь кивал, взгляд его оставался прикованным к точке где-то за стеклом, где сливались серые крыши и свинцовое небо.
– Да, – ронял он монотонно. – Смеялась.
В его голосе не было ни тепла, ни воспоминания. Только констатация факта, выцветшего и далекого, как фотография в старом альбоме. Альбина чувствовала, как ее собственное сердце сжимается, пытаясь согреть этот ледник.
Она пробовала иное. Говорила о больнице, о коллегах, которые спрашивают, передают привет.
– Петрова спасла того ребенка после сложнейшей аппендэктомии с перитонитом, – рассказывала она, стараясь вложить в голос восхищение, надежду, что это зацепит его прежнее «я». – Говорят, операция была на грани. Но она справилась. Настоящий боец.
Марк медленно поворачивал голову, его глаза, некогда такие живые, пронзительные, теперь были тусклыми, как старые пуговицы.
– Справилась, – повторял он. – Технически. А потом? Кто оплатит его реабилитацию? Кто вернет родителям нервы, истерзанные ожиданием? Спасение тела… – Он делал паузу, и в тишине комнаты слышалось лишь тиканье часов – метроном отсчитывающего пустоту времени. – …это лишь начало чьей-то новой агонии. Или старой безнадеги. Как у Милана.
Имя «Милан» падало между ними, как камень в колодец, и эхо его удара было долгим и горьким. Женщина умолкала, понимая, что каждая попытка вернуть его к свету лишь толкает глубже в трясину его мрачных раздумий.
Кира, их доченька, их солнышко, чувствовала сдвиг в атмосфере дома инстинктивно, как животное чувствует приближение грозы. Ее детский мир, прежде такой надежный, где папа был самым сильным и добрым, начал трещать по швам. Она подходила к нему, держа в руках новый рисунок – яркий, хаотичный, полный надежды.
– Пап, смотри! Это ты! Только… как супергерой! – показывала она лист, где фигура в белом халате (узнаваемо похожая на Марка) побеждала огромного, злобного дракона с надписью «Болезнь» на боку.
Марк брал рисунок. Рука его, привыкшая держать скальпель с ювелирной точностью, была необычайно тяжела. Он смотрел на каракули, на улыбающегося супергероя, и видел лишь тщетность. Дракон «Болезнь» казался ему смешным щенком по сравнению с настоящим чудовищем – драконом «Системы», «Несправедливости», «Безнаказанности», которого не победить ни скальпелем, ни героизмом.
– Красиво, солнышко, – выдавливал он, пытаясь вложить в голос тень тепла. – Очень… старалась.
Но тень была слишком бледной. Кира ловила его взгляд, искала в нем прежний огонек гордости, восхищения, любви – и не находила. Ее собственная улыбка гасла, как свечка на сквозняке.
– Тебе… не нравится? – спрашивала она тихо, неуверенно.
– Нравится, – отвечал он автоматически, отводя взгляд обратно в окно, в свой внутренний пейзаж разрушения. – Иди к маме. Она поможет тебе повесить его на холодильник.
Кира отходила, держа рисунок, который вдруг стал казаться ей ненужным, не таким уж и хорошим. Солнышко в ее маленькой вселенной тускнело.
Отпуск кончился. Валерий Александрович звонил, голос его был осторожным, полным замаскированного беспокойства и деловой необходимости.
– Марк Борисович? Добрый день. Это Валерий Александрович. Как… самочувствие? Отдых пошел на пользу?
– Да, – отвечал Марк, глядя на пылинки, танцующие в луче света у окна. – Спасибо.
– Отлично, отлично! – Главврач явно обрадовался монотонному, но не отрицающему ответу. – Мы все очень ждем вашего возвращения! Знаете, накопилось… Сложные случаи. Без вашего мастерства… – Он сделал паузу, ожидая отклика, рыцарского порыва, профессионального азарта. В трубке повисло молчание, густое и неловкое. – Э… Марк Борисович? Вы… вернетесь? В понедельник? Как обычно?
Марк закрыл глаза. Перед ним встали не сложные случаи, не вызовы хирургии. Встал образ Милана Драгановича с его бесполезной рукой и глазами Бояны, полными ледяного отчаяния. Встал бархатный голос Дронова: «Гуманитарная помощь. Единовременно». Встал лимузин, увозивший Давида забывать «неприятный инцидент» в швейцарский санаторий. Его мастерство было лишь инструментом в руках циничной машины, перемалывающей одних и оберегающей других. Возвращаться? Чтобы снова стать винтиком в этом механизме лжи и неравенства? Чтобы снова чувствовать себя шутом, чьи усилия ничего не стоят перед щелчком пальцев сильных мира сего?
– Нет, – сказал он тихо, но отчетливо. Голос не дрогнул. Камень в груди лишь холодно пульсировал. – Я не вернусь.
– Как… не вернетесь? – Валерий Александрович явно не ожидал такого. – Марк Борисович, вы же… Вы же незаменимы! Подумайте! Ваша карьера! Ваши пациенты! Ваш… ваш дар!
– Мой дар, – Марк произнес слово с горькой иронией, впервые за долгое время, дав голосу оттенок эмоции, пусть и убийственной, – оказался бессилен перед единственной реальной болезнью этого мира. Бессилен против денег и безнаказанности. Я больше не врач, Валерий Александрович. Передайте мои дела Крутову. Официальное заявление… вышлю позже.
Он положил трубку, не дожидаясь ответа. Звонкий щелчок разъема прозвучал как хлопок дверью, закрывающей целую эпоху его жизни. Он не почувствовал облегчения. Не почувствовал ничего, кроме все той же, привычной тяжести. Теперь она обрела новый объем – тяжесть падения с высоты.
Альбина узнала о его решении не сразу. Она почувствовала. Увидела, как он вышел из кабинета после разговора, не пошатнувшись, но как-то… опустошенно до дна. Как будто выплеснули последние остатки того, что еще могло напоминать о Марке Долвинове-хирурге.