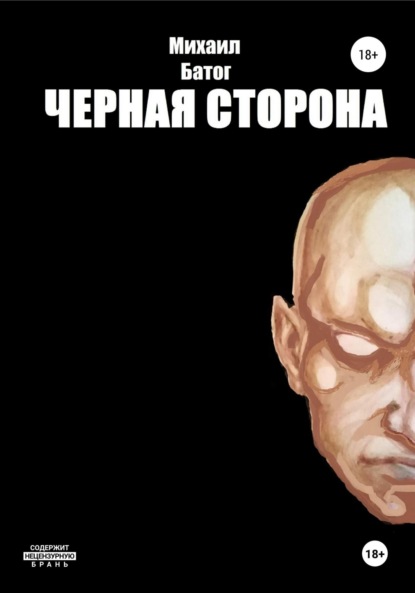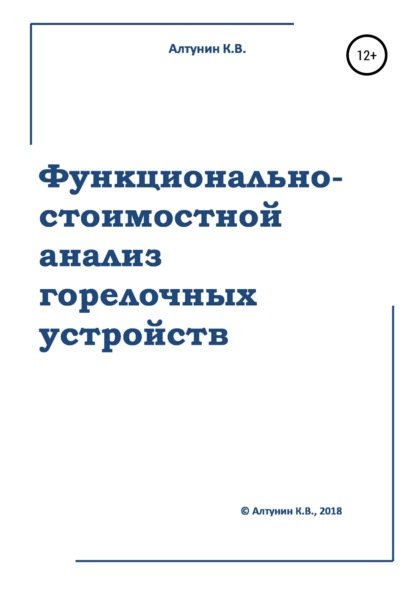Второй шанс

- -
- 100%
- +
– Марик? – спросила она вечером, когда Кира уснула, и в квартире воцарилась та самая хрустальная, режущая тишина. Они сидели в гостиной, он – у окна, она – на диване, между ними пропасть в два метра шириной и в световые годы глубиной. – Что случилось? Валерий Александрович звонил?
– Да, – ответил он, не отрываясь от темного стекла, в котором отражались ее тревожные глаза.
– И…? – Она не решалась спросить прямо. Боялась ответа.
– Я уволился.
Два слова. Простые. Ясные. Они упали в тишину, как две гири, разбивая хрупкое дно. Альбина вскочила, как будто ее ударило током.
– Уволился? – переспросила она, голос сорвался на высокой ноте неверия. – Марк, ты… ты не мог! Это же твоя жизнь! Твое призвание! Как ты мог просто… бросить? Без предупреждения? Без обсуждения?
Он медленно повернулся к ней. В его глазах не было ни вызова, ни раскаяния. Только усталая пустота.
– Обсуждения? – повторил он. – Что обсуждать, Аля? Как я буду дальше чинить тела для того, чтобы их потом калечила система? Как я буду смотреть в глаза тем, кого спасу, зная, что их ждет участь Милана? Как я буду жить с этим знанием? С этим камнем? – Он ударил себя кулаком в грудь, глухой звук отозвался в тишине комнаты. – Он здесь! Все время! И он растет! Он душит! Медицина не может его вырезать! Она бессильна! Как и я!
– Но ты не один! – закричала женщина, в глазах ее блеснули слезы гнева и отчаяния. – Ты не один, Марик! Мы с тобой! Я! Кира! Мы твоя семья! Разве мы не важнее твоих… твоих абстрактных страданий о несправедливости мира? Разве наша любовь, наш дом, наше счастье – разве это не свет, который должен гнать эту тьму? Или ты и нас уже… уже не видишь? Не чувствуешь?
Он смотрел на нее. На ее прекрасное лицо, искаженное болью, на дрожащие губы, на слезы, катившиеся по щекам. Он видел ее. Видел отчаянную попытку достучаться. Но между ними была толща льда, намерзшая за месяцы молчания и отстранения. Его черная звезда поглощала и этот свет. Он чувствовал лишь холодную вибрацию ее слов, но не их тепло.
– Вижу, – сказал он тихо. – Но свет… он не греет. Не проникает. Я… я в черной дыре, Алечка. И вашего света… его недостаточно, чтобы вырваться. Его съедает тьма.
Женщина замерла. Слезы текли по ее лицу, но она не вытирала их. Она смотрела на него, как на чужого. На человека, которого любила всем сердцем и который умирал у нее на глазах, отказываясь от помощи.
– Значит… – ее голос был хриплым, прерывистым, – …значит, мы… я и Кира… мы уже ничего не значим? Наш дом? Наша жизнь вместе? Все это… прах? Перед твоим… твоим камнем?
Он не ответил. Молчание было красноречивее любых слов. Оно кричало о его внутренней смерти громче, чем любой вопль. Женщина медленно покачала головой. В ее глазах гасла последняя надежда, последняя искра веры в то, что ее Марка еще можно спасти.
– Хорошо, – прошептала она. – Хорошо, Марик. Неси свой камень. Но не жди, что я буду смотреть, как он давит не только тебя, но и нас. Не жди.
Она развернулась и ушла в спальню. Дверь закрылась негромко, но этот звук прозвучал для Марка как последний залп по кораблю его прежней жизни. Он остался один. В центре пустой гостиной, в лунном свете, падавшем из окна, освещая пылинки, все еще бесцельно танцующие в воздухе. Он был мертвецом на посту у окна, стерегущим свою собственную погибель.
На следующий день он попытался вырваться из плена квартиры. Не к свету, а в другую тьму. Он поехал на окраину, в тот район, где жил Милан Драганович. Он не знал зачем. Может, надеялся увидеть подтверждение своей правоты – нищету, отчаяние, сломленность. Может, искал хоть какую-то искру смысла в своем падении, хоть тень оправдания. Нашел двор, серый, как все в Питере, с обшарпанными домами, ржавыми качелями и мокрыми от дождя голубями, клевавшими что-то невидимое в грязи. Нашел подъезд. Поднялся по темной, пропахшей сыростью и капустой лестнице. Постоял перед дверью, за которой жил человек, чью жизнь он «спас» для медленной гибели. Он поднял руку, чтобы постучать. И замер. Что он скажет? «Прости, что спас тебя для этого»? «Смотри, я тоже сломлен, мы теперь братья по несчастью»? Это было бы верхом цинизма. Высшей точкой его падения. Рука опустилась. Он развернулся и ушел, так и не постучав. Его визит был таким же бессмысленным, как и его существование. Он не мог помочь Милану. Он не мог помочь себе. Он был призраком, блуждающим среди живых, не способным ни на что, кроме как нести свою ношу молчаливого отчаяния.
Возвращение домой было возвращением в склеп. Альбина молчала. Говорила только необходимое, касающееся быта, дочери. Ее глаза избегали его. В них читалась не злоба, а глубокая усталость и принятие неизбежного. Кира тоже молчала. Она не подбегала, не показывала рисунки. Она смотрела на него издалека, большими, испуганными глазами, как на опасное, непонятное существо, поселившееся в теле ее отца. Дом, некогда наполненный теплом и смехом, теперь был наполнен лишь звуками – скрипом двери, шумом воды, тиканьем часов. Звуками пустоты.
Однажды вечером, когда Альбина укладывала дочь спать, Марк стоял на кухне. Он держал в руках чашку – ту самую, которую жена подала ему с кофе в первый день его отпуска. Простой белый фарфор. Он смотрел на нее, пытаясь вспомнить тепло, которое когда-то чувствовал, держа ее. Но вспоминал лишь холод стекла в окне ординаторской, холодный камень в груди, холодный взгляд Давида Дронова. Его пальцы, привыкшие к ювелирной точности, дрогнули. Не от слабости. От полной потери связи с миром вещей, с миром чувств. Чашка выскользнула из его рук.
Звон разбитого фарфора прозвучал невероятно громко в мертвой тишине квартиры. Он упал на кафель, разлетевшись на десятки острых, белых осколков, разбрызгавших вокруг лужицу холодного чая, который Марк так и не допил. Он стоял и смотрел на осколки. На хаотичный узор разрушения. Это был идеальный символ. Символ его карьеры. Его семьи. Его души. Разбитое. Бессмысленное. Не подлежащее восстановлению.
В дверях кухни появилась Альбина. Она посмотрела на осколки, потом на него. В ее глазах не было упрека. Только бесконечная печаль и окончательное понимание.
– Я уберу, – тихо сказала она и повернулась, чтобы взять веник и совок.
Он не двинулся с места. Стоял среди осколков своей жизни, чувствуя, как черная звезда в его груди поглощает последние проблески света, оставляя после себя лишь безвоздушное пространство вечной, ледяной тишины. Распад был завершен. От блестящего хирурга, мужа, отца осталась лишь тень, обреченная блуждать в потемках собственного выбора, неся камень, который когда-то был его сердцем. Звезда погасла. Окончательно. И даже свет любви не мог больше пробиться сквозь образовавшуюся черную дыру.
Глава 5
Время – не река, уносящая все в забвение. Оно скорее похоже на стоячее болото, куда опускаются тяжелые вещи и медленно, неотвратимо погружаются в ил, покрываясь слоем тины и гниющей пленкой забвения. Так погрузился Марк Долвинов. Не в воду, а в густую, липкую тень собственного отречения, пока не достиг дна – каменистого, холодного, лишенного света и надежды на всплытие. Спустя годы, отмерянные не календарем, а бесконечными одинаковыми ночами, он стал не человеком, а призраком, привязанным к месту своего последнего упокоения при жизни – к музею естествознания.
Музей был заброшен. Он был забыт. Забыт городом, спешившим куда-то вперед, к стеклянным высоткам и шумным торговым центрам. Забыт временем, которое вымыло краску с его некогда гордого фасада в стиле модерн, оставив лишь серую штукатурку, осыпавшуюся, как кожа прокаженного. Он стоял на отшибе, за высоким, проржавевшим забором, заросшим бурьяном, похожим на щупальца спрута, цепляющиеся за прошлое. Окна его, некогда высокие и светлые, теперь были забиты фанерой, изрешеченной временем и дождями, словно слепые глаза великана, умершего от тоски. Внутри царил особый воздух – не просто затхлый, а насыщенный ароматом вековой пыли, высохшего клея, тлена набивки чучел и медленного, неумолимого распада бумаги и дерева. Здесь пахло Концом. Не внезапной катастрофой, а долгим, изнурительным угасанием. Идеальное место для Марка.
Он не жил. Он сторожил. Сторожил мертвых. Ибо что такое экспонаты музея, как не мертвые свидетели ушедшей жизни? Окаменелости трилобитов, застывших в камне миллионы лет назад. Кости мамонта, собранные в жалкое подобие былого величия. Чучела птиц с потускневшими стеклянными глазами, навсегда замерших в неестественных позах. Гербарии с цветами, превратившимися в блеклые тени самих себя. Весь этот некрополь былых эпох, былого знания, былого интереса публики. Марк стал смотрителем этого царства теней. Его царства.
Ночь. Его владения. Марк медленно шел по главному залу, его фонарь выхватывал из непроглядной тьмы островки знакомого кошмара. Луч скользил по гигантскому скелету кита, подвешенному к потолку на толстых тросах. Кости, некогда белые, пожелтели, покрылись паутиной и вековой пылью. Они висели в темноте, как жуткий символ небытия, пародия на плывущее существо. Марк прошел под ним, не поднимая головы. Тень от ребер легла на него крестом. Он давно привык.
Его шаги гулко отдавались под высокими сводами, эхом повторяясь в пустых галереях. Звук был одиноким, как вой шакала в пустыне. Он носил старую шинель. Она висела на нем мешком, скрывая некогда подтянутую фигуру хирурга, превращенную годами запустения в тень. Лицо его было маской – землистого цвета, с глубокими морщинами у глаз и рта, прорытыми не смехом, а вечной гримасой немого вопроса. Глаза… Глаза были самым страшным. Некогда острые, пронзительные, живые – теперь они были тусклыми, как старые монеты, затянутыми пеленой безразличия. В них не было мысли. Была лишь привычка наблюдать. Наблюдать за неподвижным миром мертвых экспонатов и ползающих теней.
Он дошел до своего «поста» – небольшой комнатушки при входе, бывшей кассы. Здесь стоял старый, провалившийся диван, стол с кривой ножкой, керосиновая лампа (электричество в музее было роскошью) и рация, чаще молчавшая, чем говорившая. На столе – термос с дешевым чаем, буханка хлеба, кусок колбасы. Пища призрака. Марк сел на диван. Скрип пружин оглушительно грохнул в тишине. Он поставил фонарь на стол, выключил. Тьма поглотила его мгновенно, как вода камень. Только слабый красноватый отсвет керосиновой лампы дрожал на стене, напоминая о слабом биении сердца в мертвом теле.
Он не спал. Сон был для живых. Он бодрствовал. И в этой бодрствующей тьме к нему приходили не сны, а обрывки. Обрывки прошлого, острые, как осколки разбитого зеркала, вонзающиеся в мозг.
Звон разбитого фарфора. Острые белые осколки на кафеле. Лужица холодного чая. Альбина в дверях. Не упрек. Бесконечная печаль. Окончательное понимание. «Я уберу». Ее уход. Последний залп по кораблю. Прах.
Голос Дронова, бархатный, как погребальный саван: «Гуманитарная помощь. Единовременно. Неприятный инцидент». Главврач, трепещущий перед конвертом: «Человеческий подход!»
Кира. Ее рисунок. Он – супергерой, побеждающий дракона «Болезни». Ее глаза, ищущие в его глазах огонек, и не находящие. «Тебе… не нравится?» Его автоматическое: «Нравится». Ее уходящая спина, с рисунком, ставшим ненужным.
Милан Драганович. Его попытка сжать кулак правой рукой. Дикая боль. Бессилие. Его глаза, полные вопроса: «Он… заплатит?» Бояна: «Нам бы на хлеб».
Собственные руки в окровавленных перчатках. Руки, которые чинили тела, но не могли починить душу. Ни чужую. Ни свою. «Я больше не врач».
Эти обрывки кружились в темноте, как летучие мыши в пещере, натыкаясь на стены его сознания, не находя выхода. Они не вызывали боли. Не вызывали слез. Лишь глухое, мертвое эхо в пустоте, где когда-то билось сердце. Он был скелетом, на котором висели лохмотья воспоминаний, не давая окончательно рассыпаться в прах.
Внезапный треск рации разорвал тишину, заставив Марка вздрогнуть, как марионетку, дернули за нитку. Голос был сиплым, недовольным, принадлежащим миру живых, который лишь изредка вторгался в его царство.
– Долвинов! Ты там, призрак? – Это был Семеныч, начальник охраны, человек с лицом боксера-неудачника и душой мелкого тирана, нашедшего свое царство в полуразрушенном музее и двух ночных сторожах. – Прием!
Марк медленно, с неохотой протянул руку к рации. Движение было механическим, лишенным энергии. Он нажал кнопку. Голос его, когда он заговорил, был глухим, монотонным, лишенным интонаций, как скрип несмазанной двери.
– Прием. Долвинов. На связи.
– Опять в соплях, что ли? – рявкнул Семеныч. – Долго раскачиваешься! Все нормально? Никаких… гостей? – Он имел в виду бомжей или малолетних вандалов, изредка пытавшихся проникнуть в музей в поисках приключений или цветного металла.
Марк оглядел тьму за дверью кассы. Его фонарь лежал выключенным. Он не зажигал его. Зачем? Он знал, что ничего нет. Только пыль, тени и мертвые экспонаты.
– Нормально. Гостей нет. – Ответ был коротким. Эхом в пустоте.
– То-то же! – Семеныч явно был не в духе. – Следи, дружище! Последнее время шалят. На той неделе в палеонтологическом крыле стекло разбили. Хотели, видите ли, зуб мамонта стащить на сувенир! Идиоты! Там же гипс! Настоящие в фондах… – Он запнулся, осознав, что говорит слишком много с «призраком». – Ладно, старик. Бди! Утром отчет. И чтоб все было на месте! Кончилось твое дежурство – сделай последний обход. Как полагается! Не как в прошлый раз!
– Сделаю. – Марк отпустил кнопку. Голос Семеныча исчез, оставив после себя лишь чуть более густую тишину. «Старик». Марку было за сорок. Но внутри он чувствовал себя древнее этих окаменелостей. «Бди». Зачем? Что сторожить? Тлен? Распад? Он был не сторожем. Он был частью экспозиции. Экспонатом под названием «Человек, потерявший смысл». Его витрина – весь этот музей.
Он поднялся с дивана. Скрип пружин снова оглушил тишину. Взял фонарь. Включил. Луч, слабый, желтоватый, дрогнул, выхватив из тьмы стол и половик на полу, заляпанный грязью. Марк вышел из кассы. Надо было делать «последний обход». Ритуал. Бессмысленный, как все в его жизни.
Он шел медленно, фонарь в опущенной руке, луч блуждал по полу, освещая трещины в паркете, сгустки пыли, отвалившуюся лепнину. Он прошел зал с китом. Кости молчали. Он свернул в коридор, ведущий в «Зал птиц». Здесь царила особая жуть. Ряды стеклянных витрин, запотевших изнутри. За ними – пернатые мертвецы. Ястреб, замерший в вечном пике над чучелом зайца, который уже никогда не убежит. Рябчики, тетерева, глухари – застывшие в немом крике или неестественном спокойствии. Глаза – стеклянные, тусклые, слепые. Их перья, некогда яркие, потускнели, покрылись пылью, местами облезли, обнажая проволочный каркас и паклю. Пахло здесь сильнее – пылью, нафталином и чем-то сладковато-тошнотворным, напоминающим о тлении, скрытом под перьями.
Марк остановился перед витриной с филином. Большая птица сидела на суку, распушив перья, круглые желтые стеклянные глаза горели в луче фонаря с пугающей, ненастоящей жизнью. Филин. Символ мудрости. Какая ирония. Марк поднял фонарь, направил луч прямо в эти стеклянные глаза. Его собственное отражение мелькнуло в них – искаженное, бледное, с впалыми щеками и пустыми глазницами. Призрак в царстве призраков. Он вдруг почувствовал странное родство с этой птицей. Запертой. Немой. Смотрящей в вечную тьму стеклянными глазами. Он тоже был заперт. В своей тюрьме из камня и воспоминаний. Он тоже смотрел в тьму. Сквозь стеклянную пелену собственного отчаяния.
«Папа!» Солнечный зайчик голоса. Маленькие ручки, тянущиеся к нему. Он подхватывает Киру, кружит, смех звенит, как колокольчики. Запах детских волос. Тепло. Жизнь. Обрывок. Яркий, как вспышка молнии в кромешной тьме. Больно. Невыносимо больно. Марк зажмурился, резко опустил фонарь. Луч уперся в грязный паркет. Он стоял, дыша прерывисто, прислушиваясь к бешеному стуку сердца в груди – единственному доказательству, что он еще не совсем мертвец. Камень сдвинулся, обнажив старую, незажившую рану. Ангел на рисунке дочери. Его свет. Погасший.
Он заставил себя идти дальше. Мимо витрин с бабочками, когда-то яркими, как драгоценные камни, теперь поблекшими, с обтрепанными крыльями. Мимо чучел мелких зверьков – белок, куниц, горностаев, застывших в вечной погоне за несуществующей добычей. Мимо стендов с минералами, тускло поблескивающими в луче фонаря, как глаза спящих драконов.
Он вошел в «Палеонтологический зал». Здесь было просторнее и холоднее. Гигантские кости мамонта, собранные в угрожающий, но статичный скелет. Череп с бивнями, похожими на кривые сабли, направленными в пустоту. Ряды окаменелостей в витринах – отпечатки древних папоротников, раковины аммонитов, зубы доисторических акул. Мертвый мир, застывший в камне. Марк подошел к мамонту. Поставил фонарь на пол, луч уперся в массивные кости ног. Он поднял руку, медленно, с трудом, словно преодолевая невидимое сопротивление, и коснулся холодной, шероховатой поверхности бедренной кости. Холод проник сквозь кожу, пробрался в кости. Тактильное ощущение. Реальное. В отличие от всего остального. От прошлого. От будущего. От него самого.
Он прислонился лбом к кости. Шероховатость камня была знакомой. Как та колонна в больнице много лет назад. «Кто починит душу? Кто вправит вывихнувшуюся совесть?» Голос старого профессора. Эхо из прошлой жизни. Ответа не было. Только холод кости мамонта и вечная пыль музея.
– Что ты сторожишь, старик? – спросил он вслух, и его голос, хриплый, непривычный к звучанию, испугал его самого, разорвав мертвую тишину зала. Эхо подхватило: «Старик… старик… старик…» – Тлен? Распад? Или… свою собственную могилу? – Эхо безмолвствовало. Мамонт молчал. Окаменелости молчали. Только пыль, потревоженная его голосом, закружилась в луче фонаря, как микроскопические призраки.
Он простоял так долго. Опершись о кость вымершего гиганта. Два изгоя. Один – вымерший физически. Другой – вымерший духовно. Оба – экспонаты в музее забвения. Камень в груди Марка пульсировал знакомой, мертвой тяжестью. Он был призраком. Тенью. Пустой оболочкой. Его жизнь свелась к этим ночным бдениям среди мертвых костей и чучел, к редким сиплым окрикам Семеныча по рации, к термосу с чаем и хлебу с колбасой. Он сторожил не музей. Он сторожил руины самого себя. И дверь в его личную тюрьму была заперта не снаружи, а изнутри. Замком из камня бессилия и отчаяния. Рассвет, который должен был сменить его дежурство, не сулил света. Он сулил лишь смену тьмы ночной на тьму дня, которую Марк проводил в крошечной каморке при музее, похожей на склеп, избегая солнца и людей. Мир за высоким забором с колючей проволокой перестал существовать. Остался только музей. И его смотритель – призрак по имени Марк Долвинов.
Глава 6
Тишина в заброшенном музее была не отсутствием звука, а его мумией. Она висела тяжелым, пыльным саваном, пропитанным ароматами тлена, высохшего клея и векового отречения. Марк Долвинов, сторож этого царства теней, сидел в бывшей кассе, его фигура сливалась с сумраком, как еще один неописанный экспонат. Перед ним на столе с кривой ножкой стоял жестяной стакан с остывшим чаем – темной лужицей, отражающей тусклый свет керосиновой лампы. Утро. Сквозь щели в забитых фанерой окнах пробивались жалкие нити света, не столько освещая, сколько подчеркивая глубину мрака. Они выхватывали частицы пыли, вечно танцующие в застойном воздухе, как микроскопические души былых посетителей. Марк не спал. Сон был привилегией живых, а он давно пересек эту грань, став смотрителем собственной усыпальницы. Его пальцы, некогда столь уверенные со скальпелем, теперь лишь медленно водили по холодной жести стакана, ощущая шероховатость ржавчины – единственную тактильную правду этого места.
Внезапно – резкий, чужеродный звук. Не скрип крысы под плинтусом и не треск оседающего дерева витрины. Это был звонок в дверь главного входа. Настойчивый, металлический, режущий тишину как нож тухлую плоть. Марк вздрогнул, не от испуга, а от неожиданности вторжения иного мира. Его сердце, давно приученное к редким, ленивым ударам, едва заметно участило ход. Кто? Семеныч, начальник охраны с лицом озлобленного бульдога? Но он являлся редко и никогда – через парадный вход, предпочитая черный ход и рацию. Бомжи? Вандалы? Но те не звонили. Они вламывались или пролезали.
Он поднялся с провалившегося дивана, движение его было тяжелым, как у мамонта, поднимающегося из вечной мерзлоты. Шинель, висевшая на нем мешком, колыхнулась, подняв облачко пыли. Фонарь он не взял. Утро. Достаточно того серого света, что пробивался внутрь. Он прошел через Главный зал, мимо гигантского скелета кита, чьи желтые кости, подвешенные на тросах, бросали на пол длинные, узкие тени, похожие на решетку. Эхо его шагов гулко отдавалось под сводами, словно его преследовал кто-то невидимый, наступая ему на пятки.
Дверь была массивной, дубовой, некогда величественной, ныне – покоробленной, с облезлой краской. Марк щелкнул тяжелыми железными засовами – звук громкий, окончательно добивающий музейную тишину. Он потянул дверь на себя. Она скрипнула, как костяные челюсти доисторического монстра, открываясь.
На пороге стояли они. Альбина и Кира.
Марк замер. Не от радости. От глухого удара в солнечное сплетение реальности, которую он тщательно хоронил под слоями музейной пыли. Несколько лет. Они были для него не временем, а состоянием – состоянием небытия. А перед ним стояло доказательство его прежней жизни, и оно было болезненно ярким, чужим.
Альбина. Его Алечка. Но не та, с теплыми, как спелый персик, глазами и легкими морщинками смеха у губ. Перед ним была женщина с лицом, высеченным из холодного мрамора усталости. Резкие складки легли от крыльев носа к поджатым губам. Глаза, когда-то столь живые, глубокие, теперь смотрели на него с ледяной ясностью, в которой не было ни любви, ни ненависти – лишь окончательное решение. Она была одета просто, строго – темное пальто, шарф, плотно обхватывающий шею, словно защищая от сквозняка не только тела, но и души. В руках – большая, потертая сумка, набитая до отказа. В ней угадывались очертания книг, папок, свертков. Вещи. Осколки их общего прошлого.
И Кира. Его солнышко. Но солнце это было скрыто за тучами. Двенадцать лет. Не ребенок, но еще не девушка. Неловкий возраст, когда тело тянется вверх, а душа сжимается от непонятной тоски. Она стояла чуть позади матери, пряча половину лица в воротник своего ярко-синего пуховика – кричащий цвет в этом сером мире. Ее темные, непослушные кудри, которые он так любил гладить, были стянуты в строгий хвост. Глаза – огромные, темные, как у Альбины, но не ледяные. В них читался испуг, растерянность, стыд и… отчуждение. Она смотрела на него не как на отца, а как на странное, жалкое существо, случайно оказавшееся на ее пути. Она выросла. Без него. И он был для нее чужим.
– Марк, – голос Альбины прозвучал ровно, без колебаний, как удар скальпеля по натянутой коже. Не «Марик». Просто – Марк. Как коллеге. Как соседу. Как тому, чья близость осталась в прошлом веке. – Мы пришли поговорить. Можно войти? Здесь… холодно.
Марк молча отступил, пропуская их. Он не нашел слов. Камень в его груди, казалось, на миг раскалился докрасна, обжигая изнутри, но тут же остыл, став еще тяжелее, еще недвижимее. Запах улицы – влажный, морозный, с оттенком выхлопов – ворвался в затхлую атмосферу музея, создавая диссонанс, почти физически ощутимый.
Альбина вошла первой, ее взгляд скользнул по знакомому, но чужому пространству Главного зала – по скелету кита, по запыленным витринам, по трещинам на паркете. В ее глазах мелькнуло что-то – жалость? Отвращение? – но тут же погасло, уступив место все той же ледяной решимости. Кира шаркнула ногами о ржавый коврик у входа, сбивая снег, и робко шагнула за матерью. Ее глаза широко раскрылись, впитывая мрак и странность места. Она смотрела на кости кита не с детским любопытством, а с опаской, как на предзнаменование.
– Ты… живешь здесь? – спросила она тихо, ее голосок, ставший чуть ниже, звенел невидимой трещиной. Она не смотрела на него, уставившись на гигантский череп.
– Сторожу, – ответил Марк хрипло. Голос его, отвыкший от слов, звучал чужим, как скрип несмазанной двери. – Работа.
– Жутковатое место, – констатировала Альбина без эмоций. Она поставила тяжелую сумку на пол. – Но, видимо, соответствует. Нам нужно поговорить. Наедине. Кирочка, солнышко, подожди здесь минутку. Не бойся, это просто кости. Они не кусаются.
Кира кивнула, неохотно отрывая взгляд от скелета. Она съежилась, засунув руки глубоко в карманы пуховика, словно стараясь стать меньше, незаметнее. Ее взгляд упал на отца, мелькнул – и тут же отвелся. Стыд. Ей было стыдно за него. За это место. За себя, стоящую здесь.
Марк молча повел Альбину в свою каморку – бывшую кассу. Запах керосина, старого хлеба и затхлости встретил их. Женщина не села на продавленный диван. Она стояла посреди тесного пространства, ее фигура казалась неестественно прямой, несгибаемой в этом царстве упадка. Марк закрыл дверь, отгородившись от дочери и от мира. Звук щелчка был негромким, но окончательным.