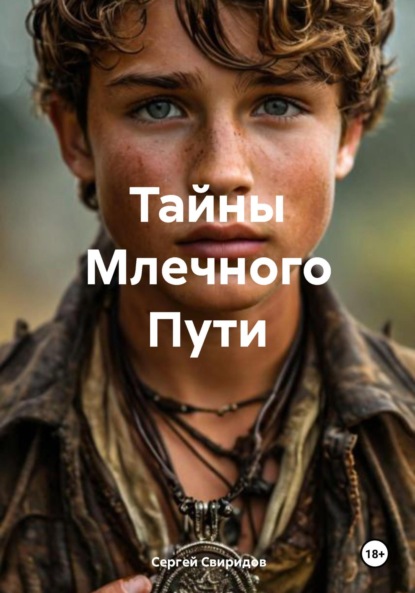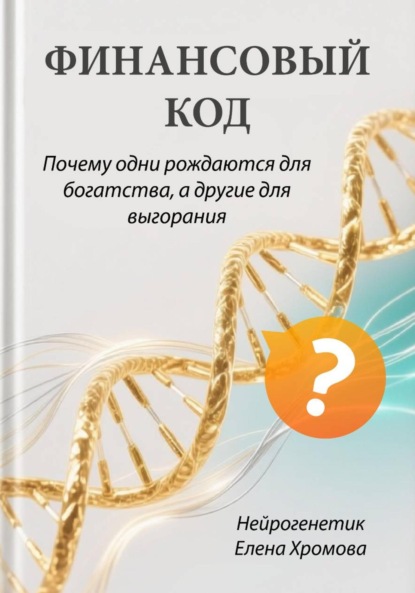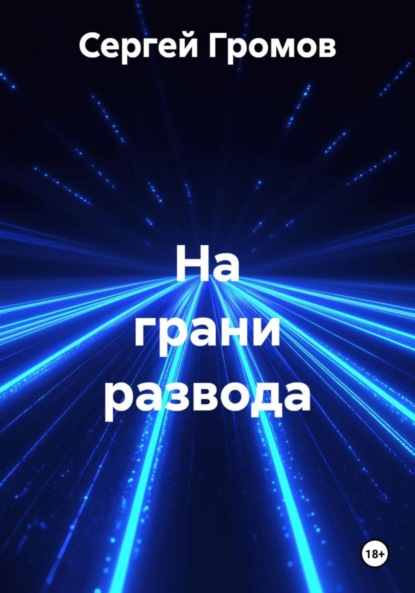Второй шанс

- -
- 100%
- +
– Зачем пришли? – спросил он, опираясь о стол. Его пальцы снова нашли жестяной стакан, начали водить по нему, ища опоры в холодном металле.
Альбина вздохнула. Глубоко. Этот вздох казался выдохом всей накопленной за годы усталости, разочарования, невыплаканных слез.
– Зачем? – она повторила, и в ее голосе впервые прорвалась горькая нотка. – Ты спрашиваешь «зачем»? Марк, мы не виделись столько лет. Ты не звонил. Не писал. Не интересовался. Как Кира? Как я? Как мы живем? Ты просто… исчез. В этот… склеп. – Она обвела рукой тесное, убогое пространство. – Мы приносили тебе вещи в первые месяцы. Помнишь? Пищу. Одежду. Ты брал. Молча. Даже «спасибо» не говорил. Потом перестали. Зачем? Чтобы смотреть, как ты медленно превращаешься в этот… в этот экспонат скорби? Чтобы видеть, как твой камень давит не только тебя, но и тень твоей дочери?
Марк смотрел в холодную лужицу чая в стакане. Камень в груди давил на легкие, мешая дышать. Он не мог найти слов. Все слова казались прахом, как пыль на чучелах в зале.
– Я… не мог, – выдавил он наконец. – Видеть. Слышать. Быть… тем, кем был. Я сломался, Аля. Ты же знаешь.
– Знаю! – ее голос резко повысился, но тут же она взяла себя в руки, сжав губы. – Знаю, Марк. Я видела, как ты падал. День за днем. Ночь за ночью. Я пыталась до тебя достучаться! Цеплялась за тебя, как утопающий за соломинку! Я кричала, умоляла, плакала! Я злилась! Я предлагала помощь – любую! Психологов, лечение, переезд, смену работы! Ты отталкивал. Ты ушел в свою черную дыру и захлопнул крышку изнутри. И ты не просто ушел от меня. Ты ушел от нее. От Киры. – Она указала рукой в сторону двери, за которой ждала дочь. – Твоя дочь выросла без отца. Не физически отсутствующего, а мертвого при жизни. Она помнит тебя лишь как призрак, бродящий по квартире, как человека, который не мог даже поднять ее, обнять, посмотреть в глаза. Ты знаешь, как она называет тебя в разговорах со мной? «Тот человек». Не «папа». «Тот человек».
Каждое слово било Марка, как молот по наковальне. Он чувствовал, как дрожат его руки. Он сжал стакан так, что тонкий жестяной край врезался в ладонь. Боль. Острая, реальная. Единственное, что напоминало, что он еще чувствует.
– Что… что ты хочешь? – спросил он, не поднимая глаз.
– Я устала, – сказала Альбина тихо, и в этой тишине прозвучала вся бездна ее отчаяния. – Устала нести твой камень. Устала быть мостом между твоей тьмой и светом нашей дочери. Устала объяснять ей, почему ее отец предпочел музей мертвых костей ее живой улыбке. Устала жить в ожидании чуда, которое никогда не случится. Я умираю вместе с тобой, Марк. Медленно. Болезненно. И я не хочу тащить за собой в эту могилу Киру. Ей двенадцать. У нее должна быть жизнь. Настоящая. С надеждой. С солнцем. Без этого… – она снова обвела рукой каморку, – без этой вечной тени над ней.
Она открыла свою сумку, порылась в ней и вынула пару бумаг. Чистых, белых, с казенными штампами. Они резко контрастировали с грязью и убожеством окружающего пространства.
– Это бумаги на развод, – голос ее снова стал ровным, ледяным. – Все оформлено. Мне нужна твоя подпись. И… – она достала связку ключей. Два ключа на простом кольце. Ключи от их квартиры. От их прошлого. – Забери свои ключи. Квартира продана. Мы уезжаем.
Слова «уезжаем» прозвучали как приговор. Окончательный и бесповоротный. Марк поднял глаза. Впервые за этот разговор он посмотрел прямо в лицо Альбины. В эти знакомые, но чужие глаза.
– Куда? – спросил он шепотом.
– Подальше. В другой район. В другой мир. Туда, где нет призраков и заброшенных музеев. Где Кира сможет начать все заново. Где я смогу… дышать. – Она положила бумаги и ключи на стол рядом с его стаканом. – Подпиши, Марк. Сделай это для нее. Если не для меня, то для нее. Дай нам шанс. Дай ей шанс жить.
Марк посмотрел на ключи. Маленькие, металлические. Когда-то они открывали дверь в тепло, в свет, в запах Альбининых духов и смех Киры. Теперь они были лишь холодным металлом. Символом потери. Он взял ручку, которую Альбина положила рядом с бумагами. Пластиковая, дешевая. Не та, что треснула у него в руке в больничной ординаторской в ту роковую ночь, но столь же чуждая. Он раскрыл бумаги. Строчки плыли перед глазами. Юридические термины. «Расторжение брака…», «…несовершеннолетний ребенок…», «…права и обязанности…». Слова казались бессмысленными. Пустыми, как он сам. Он нашел строчку для подписи. Посмотрел на свое имя, напечатанное машинкой: «Долвинов Марк Борисович». Кто этот человек? Блестящий хирург? Муж? Отец? Он умер. Остался лишь сторож Марк. Призрак.
Он подписал. Размашисто, неразборчиво. Как ставил подпись под историями болезни. Автоматически. Без мысли. Без чувства. Камень в груди был тяжелее свинца.
Альбина аккуратно собрала подписанные бумаги. Ничего не сказала. Ни слова благодарности, ни упрека. Дело было сделано. Она положила их в сумку. Взяла ключи и протянула ему еще раз.
– Твои ключи, Марк. Забери их.
Он медленно протянул руку. Пальцы его дрожали. Он взял ключи. Холодный металл обжег кожу.
– Кира… – начал он, но голос пресекся. – Я… могу я с ней поговорить? Хотя бы минуту?
Альбина посмотрела на него долгим, оценивающим взглядом. В ее глазах боролись жалость и страх – страх, что этот контакт ранит дочь еще больше.
– Минуту, – согласилась она наконец, резко. – Но не делай ей больно, Марк. Пожалуйста. Она и так… Она не понимает. Она просто страдает.
Она вышла из каморки, оставив дверь приоткрытой. Марк услышал ее приглушенный голос в Главном зале: «Кир, папа… тот человек… хочет с тобой поговорить. Минутку. Я подожду у входа».
Марк вышел. Кира стояла посреди зала, рядом с огромной бедренной костью мамонта, как маленькая, заблудшая песчинка у подножия вымершей горы. Она смотрела на него, широко раскрыв глаза. Страх и ожидание смешивались в ее взгляде.
Марк подошел медленно, стараясь не делать резких движений, как к пугливому зверьку. Он остановился в шаге от нее. Раньше он бы опустился на колени, обнял ее. Теперь он не смел. Между ними выросла стена выше музейных стен.
– Кира… – начал он, и имя дочери на его губах показалось святотатством. – Ты… выросла.
Она кивнула, не отрывая от него испуганного взгляда. Ее пальцы теребили молнию на пуховике.
– Я… – он искал слова, но все они были прахом. Что сказать? «Прости»? За что? За то, что он сломался? За то, что предпочел тьму их свету? За то, что не смог быть отцом? Это было слишком огромно. Слишком несправедливо по отношению к ней. – Ты… хорошо учишься? – выдавил он наконец банальность.
– Нормально, – прошептала она. Голосок дрожал. – Четверки… пятерки… Мама помогает.
– Это… это хорошо, – пробормотал он. Пауза повисла тягостная, густая, как музейная пыль. Он видел, как она напряглась, готовая к бегству. Он должен был что-то сказать. Что-то важное. Последнее. – Кира… я… – он сглотнул ком в горле. – Я помню твои рисунки. Ангела… Супергероя… Они… они были красивыми. Очень.
Она удивленно моргнула. Видимо, не ожидала этого. В ее глазах мелькнул крошечный огонек – воспоминание? Но он тут же погас, задутый холодом реальности.
– Это было давно, – сказала она тихо, отводя взгляд. – Я уже не рисую таких. Только… по школе. Натюрморты. Вазы.
Натюрморты. Мертвая натура. Как он. Как весь этот музей. Горькая ирония судьбы.
– Вазы тоже могут быть красивыми, – сказал он глупо, чувствуя всю нелепость своих слов.
Она ничего не ответила. Смотрела в пол. На ее ресницах заблестели слезинки. Она быстро смахнула их рукавом.
– Нам… нам надо идти, – сказала она, поднимая на него взгляд. В нем была мольба. Отпусти. – Мама ждет. Автобус…
– Да, – кивнул он. Сердце бешено колотилось, но казалось, что бьется оно не в его груди, а где-то далеко, под толщей льда. – Иди. Не… не задерживай маму.
Она кивнула и сделала шаг к выходу. Потом остановилась. Обернулась. Посмотрела на него. Прямо в глаза. В ее взгляде было столько боли, столько непонимания, столько детской обиды, что Марк едва устоял на ногах.
– До свидания… – она замялась, ища нужное слово. Отец? Папа? Она не нашла. – …дядя Марк, – выдохнула она наконец и быстро побежала к выходу, к матери, к жизни, оставив его стоять среди костей и теней с этим новым, страшным именем – «дядя Марк».
«Дядя Марк». Не отец. Дядя. Чужой. Окончательное отречение. Последний гвоздь в крышку гроба его отцовства.
Он стоял, не двигаясь, слушая, как за тяжелой дверью щелкнул замок. Как удалялись шаги по скрипучему снегу. Как заглох вдали шум автобуса, увозящего самое дорогое, что у него когда-либо было, и что он сам же и потерял.
В руке он сжимал ключи. Холодный металл впивался в ладонь. Он поднял руку, посмотрел на них. Ключи от пустоты. От квартиры, которой больше нет. От прошлого, которое умерло. От семьи, которую он похоронил заживо своим отречением.
Внезапно, с нечеловеческим усилием, он швырнул ключи изо всех сил. Они звякнули, ударившись о желтую реберную кость гигантского кита, висевшего над ним, и упали в пыль у его подножия. Жалкий, никому не нужный металл среди вечных костей.
Марк Долвинов опустился на колени прямо на холодный, грязный паркет. Он не плакал. Слезы были для живых. Он просто сидел, сгорбившись, уткнувшись лбом в пыль у подножия вымершего гиганта. Камень в его груди разросся до размеров вселенной, поглотив последние проблески чего-то, что когда-то было душой. Он был пуст. Окончательно. Безнадежно. Разбитый сосуд, из которого утекло все – любовь, надежда, отцовство, сама суть быть человеком. Теперь ему оставалось только сторожить тени. И свою собственную, самую глубокую, самую беспросветную из них. Дверь в его склеп захлопнулась окончательно. И ключи от нее он только что выбросил в пыль.
Глава 7
Дождь. Не яростный кулак стихии, бивший когда-то в крышу «Милосердия», а мелкая, назойливая дробь, словно невидимая рука сыплет на город бесконечный песок забвения. Он стучал по фанерным щитам, забившим некогда гордые окна Музея Теней, по ржавому забору, по крыше автобуса, увозившего Альбину и Киру прочь от Марка – прочь от «дяди Марка». Стоя на коленях у подножия гигантского скелета кита, Марк не слышал этого стука. В его ушах гудело мертвой тишиной, той самой, что была мумией звука в этом царстве распада, но теперь она была внутри, заполнив черепную коробку до краев тяжелым, звонким вакуумом. Ключи – холодные, острые осколки его прошлого – лежали рядом в пыли, рядом с отпечатком его лба, вдавленным в грязный паркет. «Дядя Марк». Слова дочери, тихие и безжалостные, как скальпель, рассекли последнюю нить, связывавшую его с миром живых. Он был теперь лишь призраком, сторожившим других призраков, и даже тень его казалась бледнее в этом утреннем сумраке музея.
В автобусе, трясущемся по разбитым питерским улицам, царила своя, иная тишина. Густая, липкая, как невысказанная боль. Альбина сидела у окна, пальцы судорожно сжимали ручку потертой сумки, набитой остатками их с Марком общей жизни – фотографиями, книгами, безделушками, которые теперь казались чужими, как экспонаты в том проклятом музее. Она не плакала. Слезы высохли давно, выжженные годами ожидания, мольбы и медленного умирания мужа у нее на глазах. Вместо них на душе лежал холодный, гладкий камень решимости, тяжелый, но не давящий, а скорее – дающий опору. Решение было принято. Мост сожжен. Оставалось идти вперед, таща за руку их испуганную ласточку.
Кира прижалась к матери, пряча лицо в складках ее темного пальто. Запах матери – знакомый, теплый, с оттенком лавандового мыла и чего-то неуловимо родного – был единственной твердыней в рушащемся мире. «Дядя Марк». Эти слова вырвались сами, как щепка из треснувшей льдины. Она не хотела так говорить. Но тот человек в страшном музее мертвых костей, с впалыми щеками и пустыми глазами призрака, был чужим. Не папой. Папа остался там, в далекой, почти стершейся памяти, где он был сильным, смешным, пахнул больницей и крепко обнимал, поднимая к потолку, чтобы она визжала от восторга. Этот человек… он был тенью папы. И тени пугали. Она чувствовала вину – жгучую, недетскую – за то, что назвала его «дядей», но иначе не могла. Сердце сжималось в комок, горло перехватывало. Она вжалась в маму сильнее, ища защиты не от внешнего мира, а от хаоса внутри.
– Мам? – прошептала она так тихо, что едва было слышно сквозь грохот двигателя и шум дождя по крыше.
– Да, солнышко?
– Мы… мы больше не вернемся? Туда? К… к нему?
Альбина глубоко вздохнула. Воздух пах сыростью и бензином. Она обняла дочь за плечи, почувствовав, как тонкие косточки дрогнули под ее пальцами.
– Нет, Кир. Не вернемся. Мы едем домой. Наш новый дом. Там будет твоя комната. Большая. С окном на юг. И ты сама выберешь обои. Любые. – Голос ее был ровным, спокойным, как поверхность глубокого озера после бури. В нем не было ни фальши, ни натужной бодрости. Только усталая твердость.
– А он… дядя Марк… – Девочка запнулась, не зная, как закончить. – Что будет с ним? Зачем он там? Почему он такой?
– Он… выбрал свой путь, – сказала Альбина осторожно, подбирая слова, которые не ранят, но и не лгут. – У каждого свой крест. Или свой камень. Его он несет там. А мы… мы должны идти своей дорогой. Светлой. Для тебя. Для нас обеих. Ты же хочешь, чтобы у нас все было хорошо?
Кира кивнула, уткнувшись носом в мамино плечо. «Хорошо». Это слово казалось таким хрупким, таким далеким от серости за окном и ледяной пустоты музея. Но мама говорила его с такой уверенностью, что хотелось верить. Хотя бы чуть-чуть.
Квартира встретила их не теплом, а гулким эхом утраты. Уже не их квартира. Скоро здесь будут чужие люди, чужие голоса, чужие запахи. Вещи, аккуратно сложенные в коробки, стояли вдоль стен, как немые свидетели уходящей эпохи. Пыль висела в воздухе, поднятая недавними сборами, и лучи слабого питерского света, пробивавшиеся сквозь немытые окна, высвечивали в ней бесчисленные танцующие частицы – словно души забытых моментов.
– Собирай самое необходимое в свою дорожную сумку, милая, – сказала Альбина, снимая мокрое пальто. – То, что нужно на первые дни. Остальное грузчики перевезут завтра. Я пока разогрею суп.
Кира молча прошла в свою комнату. Здесь еще пахло ею – красками, бумагой, любимым яблочным шампунем. Но стены, некогда увешанные ее рисунками – яркими, хаотичными, полными жизни и веры в папу-супергероя, – были пусты. Рисунки лежали аккуратной стопкой в одной из коробок. Как экспонаты в музее. Она подошла к столу, где еще стояла незаконченная работа – натюрморт. Ваза. Яблоко. Ткань. Все серое, сдержанное, «взрослое». Она больше не рисовала ангелов. Ангелы были для веры. А вера в папу рассыпалась, как пыль в музее мертвых костей. Она взяла яблоко с рисунка – настоящее, уже слегка сморщенное. Откусила. Кисло-сладкий сок напомнил о жизни. Настоящей. Которая где-то там, за стенами этой опустевшей квартиры. Она сунула яблоко в карман джинсов и начала складывать в сумку любимую пижаму, книгу, плюшевого медведя, которого ей когда-то купил папа… нет, тот человек. Руки ее двигались автоматически, а мысли кружили вокруг утренней сцены: его пустые глаза, холод костей мамонта, жуткий запах тлена и пыли, и эти слова… «дядя Марк».
Альбина стояла на кухне у плиты, но не видела кастрюли с супом. Она видела его. Марк. Не сегодняшнего призрака в музее, а того, каким он был до падения. Яркого, страстного, с горящими глазами хищника у операционного стола и нежными руками, гладившими по голове Киру, когда она засыпала. Она видела его гордую осанку, слышала его уверенный смех, чувствовала его тепло в их постели. Потом пришел камень. Невидимый, тяжелый, вытеснивший все: любовь, отцовство, профессию, саму суть быть человеком. Она боролась. Боже, как она боролась! Цеплялась за каждую тень прежнего Марка, умоляла, кричала в пустоту его отрешения, искала врачей, психологов, читала книги о выгорании. Она была мостом между его погружающейся во тьму душой и светящейся, как маяк, душой их дочери. И мост этот рухнул. Не под тяжестью невзгод, а под тяжестью его безразличия. Его выбора. Он предпочел музей теней их живому свету. Подпись на бумагах… это был лишь формальный штрих. Их брак умер годами раньше, задыхаясь в тисках его депрессии. Сейчас она чувствовала не горечь, а ледяное облегчение, смешанное с горечью утраты того, что могло бы быть, но так и не случилось. И бесконечную усталость. Как после долгой, изматывающей осады.
– Мам, суп подгорает, – тихий голос Киры вывел ее из оцепенения.
Альбина вздрогнула, резко выключила конфорку. Запах горелой крупы повис в воздухе.
– Прости, солнышко. Задумалась. Сделаем бутерброды. Хорошо?
Кира кивнула, глядя на мать большими, понимающими глазами. Слишком понимающими для двенадцати лет. В них читалось: «Я знаю, тебе тоже больно». Альбина отвернулась, чтобы скрыть внезапно навернувшиеся слезы. Не за себя. За дочь. За это преждевременное взросление, оплаченное отцовским бегством в небытие.
Вечером, укладывая Киру спать в ее почти пустой комнате (матрас на полу, рядом сумка с вещами), Альбина долго сидела рядом, гладя дочь по волосам. Раньше она пела колыбельные. Теперь просто молчала, давая почувствовать свое присутствие, свою защиту.
– Мам?
– Да, милая?
– А в новом доме… там не будет… как в том музее? Запаха такого?
Альбина сжала губы, подавляя ком в горле.
– Нет, солнышко. Там будет пахнуть свежей краской. И печеньем. И солнцем, когда выглянет. Обещаю.
Кира закрыла глаза, но Альбина видела, как под тонкими веками бегают зрачки. Она не спала. Притворялась. Чтобы мама ушла и не видела ее страха.
– Спи, – прошептала женщина, целуя дочь в лоб. – Завтра новый день. Наш день.
Она вышла, притворила дверь и прислонилась к косяку, закрыв лицо руками. Тихие, беззвучные рыдания сотрясали ее тело. Не от слабости. От выпущенной наружу боли, годами копившейся за каменной стеной материнской стойкости. Она плакала за Киру, за украденное детство, за веру в отца, разбитую вдребезги. Плакала за Марка, за того блестящего хирурга, который сгинул в пучине собственного отчаяния. Плакала за себя – за женщину, слишком долго носившую чужой камень. Когда слезы иссякли, она вытерла лицо, глубоко вдохнула. Воздух в квартире все еще пах пылью и горелым супом, но где-то там, завтра, обещали запах свежей краски и солнца. Она должна была верить. Ради Киры. Ради остатков их света.
Марк Долвинов не помнил, как поднялся с колен. Он стоял посреди Главного зала, под взлетающими ребрами вымершего кита, и смотрел на пятно пыли на паркете – место, куда упал его лоб, место, где он пытался вжаться в небытие. Ключи все так же лежали рядом. Холодный металл. Символы утраченных дверей. Он наклонился. Медленно, с трудом, словно суставы его окаменели. Поднял их. Ощутил знакомую шероховатость ржавчины, холод, прожигающий кожу. Не выбросил. Засунул глубоко в карман шинели. Не как память. Как улику. Улику собственного падения. Он пошел к своей каморке. Шаги гулко отдавались под сводами, эхо преследовало его, как насмешка. В кассе пахло керосином, чаем и тленом. Он сел на диван. Пружины скрипнули жалобно. Перед ним на столе стоял жестяной стакан с остывшим чаем – темной, мертвой лужицей. Он смотрел на нее. Видел не чай. Видел последние капли чего-то, что когда-то было его жизнью, его любовью, его отцовством. Теперь это была просто лужа горечи на столе в каморке сторожа мертвецов. Он протянул руку, неловко толкнул стакан. Жесть звякнула, чай расплескался по дереву темными, бесформенными пятнами. Как его жизнь. Как его душа. Он не стал вытирать. Пусть впитывается. Пусть остается пятном. Свидетельством. За окном, сквозь щели в фанере, пробивался жалкий отсвет уличного фонаря. Он падал на стену, где когда-то висела инструкция для кассира, а теперь висела только паутина и пыль. Марк уставился на этот бледный луч. В нем танцевали пылинки – микроскопические миры, обреченные на вечное кружение в пустоте. Он был одной из них. Затерянной. Бесцельной. Остатком света, который уже не мог осветить ничего, кроме вечной тьмы его выбора. Музей Теней поглотил его окончательно. И ключи от свободы лежали у него в кармане, ржавея, как ненужный хлам. Дверь захлопнулась. Изнутри.
Глава 8
Бывают дни, когда время в музее не просто застывает – оно кристаллизуется, превращаясь в густой, тягучий янтарь, где Марк Долвинов замурован навеки, как доисторическая мошка. Пыль, вечная спутница распада, оседала на его шинели, на столе, на жестяном стакане с мутной водой, заменявшей чай, ложилась тонкой вуалью на стеклянные глаза чучел в соседнем зале. Она была не просто грязью; она была саваном времени, медленно погребающим под собой останки былого смысла, былых страстей, былой жизни.
Марк сидел в каморке бывшей кассы, его поза – сгорбленная, рассыпающаяся – повторяла очертания провалившегося дивана. В руке он механически мял черствый хлеб, крошки падали на колени, сливаясь с пылью шинели. Его взгляд, давно утративший фокус на реальном мире, блуждал где-то в пустоте между трещиной на стене и пятном от керосина на столе. Камень в груди, его вечный спутник, холодный и недвижимый, казался единственной твердью в этом мире тлена. "Дядя Марк". Эхо детского голоса, холодное и режущее, все еще висело в затхлом воздухе, призраком последнего визита из мира живых. Он пытался загнать его глубже, под слой пыли в сознании, как загонял все, что могло напомнить о боли.
Внезапно – шум за дверью. Не скрип Семеныча, не шорох крысы. Это был резкий, небрежный удар ногой по чему-то металлическому у парадного входа, потом скрежет отодвигаемых засовов – Семеныч никогда не возился так долго. Марк не пошевелился. Чужой шум в его царстве теней был лишь досадным насекомым, жужжащим на периферии небытия. Голоса. Два. Один – сиплый, знакомый, начальника охраны. Другой – молодой, раздраженный, с ноткой брезгливого превосходства.
– …ну и дыра! – доносилось сквозь толстую дверь. – Как будто в гробу! И этот ваш призрак тут реально живет? Не спятил еще?
– Живет, живет, – отозвался Семеныч, голос его звучал подобострастно. – Тихий. Работу справляет. Ничего не трогает. Вот, кидаю почту. Раз в неделю приходит. Журнал какой-то да газета. Ему, наверное, по инерции шлют. Или бывшая жена…
– Хлам. – Молодой голос фыркнул. – Ладно, клади на тумбу. И скажи ему, чтоб крышу в палеонтологическом проверил. После того ливня там опять течь. В фондах сырость!
– Скажу, скажу, не беспокойтесь, Виктор Витальевич! Все будет сделано!
Шаги удалились. Скрип двери. Звук задвигаемых засовов. Тишина вернулась, но теперь она была нарушенной, зараженной этим вторжением чужой, презрительной жизни. Марк медленно поднялся. Суставы скрипели протестом. Он вышел в Главный зал. На пыльной тумбе у входа, рядом с отпечатком его лба, лежала небольшая стопка: толстый журнал "Природа" с потускневшей обложкой и свернутая в трубку газета "Голос Города". Их приносили исправно. Он никогда не разворачивал. Просто уносил в каморку, где они покрывались новым слоем пыли, становясь частью интерьера склепа. Сегодня что-то заставило его протянуть руку. Может, привычка. Может, смутный отголосок того, что когда-то он был человеком, читавшим новости. Может, просто чтобы отвлечься от звука того голоса – " Виктор Витальевич", – напомнившего ему голоса из прошлого, голоса Дронова этого мира.
Он взял газету. Бумага была прохладной, чуть шершавой. Развернул. Страницы пахли типографской краской, незнакомым, чуждым запахом внешнего мира. Его взгляд, привыкший к полумраку, зацепился за крупный шрифт на первой полосе. "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «СЕРДЦЕ МИРА»". Картинка под заголовком – улыбающиеся лица, смокинги, блеск люстр. Его пальцы автоматически сжали бумагу. Что-то щелкнуло внутри, как сработавший в пустоте предохранитель. Он пробежал по тексту, не понимая слов, только выхватывая знакомые сочетания букв, ножом вонзающиеся в мозг.
"…за значительный вклад в развитие гуманитарных программ и бескорыстное служение идеалам милосердия…" "…основатель и глава Фонда «Новое Начало» Давид Дронов…" "…вручение премии «Золотое Сердце»…"
Давид Дронов. Имя ударило, как обух по виску. Не воспоминанием – физической болью. Перед глазами поплыли картинки, яркие, как вспышки молнии в кромешной тьме: окровавленный руль грузовика… землистое лицо Милана на операционном столе… пустой, ледяной взгляд пьяного мальчишки в больничном коридоре… бархатный голос его отца: "Гуманитарная помощь. Единовременно. Неприятный инцидент"… Бояна, с глазами полными ледяного отчаяния: "Нам бы на хлеб"… беспомощно висящая правая рука Милана… Альбина, уходящая с Кирой: "Мы едем домой. Наш новый дом"… "Дядя Марк".
Газета задрожала в его руках. Тонкая бумага зашуршала, словно плача. Он впился взглядом в фотографию. Давид Дронов. Не испуганный мальчишка. Мужчина. Уверенный. Гладкий. Улыбающийся. В идеальном костюме. Рука легким жестом указывала на что-то за кадром – на фонд? На награду? На свою безупречную совесть? Марк увидел не человека. Он увидел маску. Дорогую, отполированную, циничную маску, скрывающую пустоту, разбитые судьбы, сломанные жизни. Маску, которую мир с восторгом награждал "Золотым Сердцем".