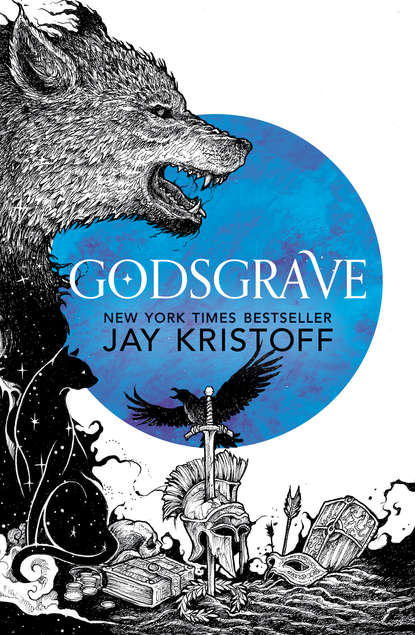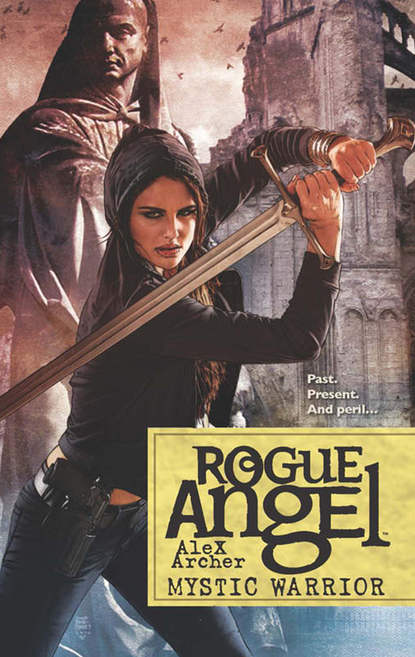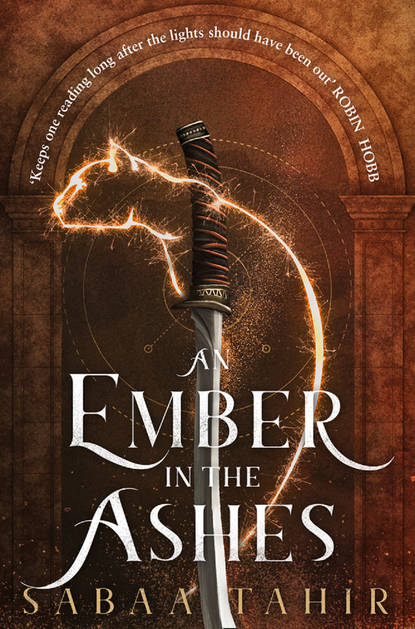Второй шанс

- -
- 100%
- +
– Гуманизм… – хриплый звук вырвался из его горла, непривычный к речи, похожий на скрежет камня по камню. Он говорил не в пустоту зала. Он говорил скелету кита, висевшему над ним, этим немым свидетелем вечности. – Слышишь, старина? "Гуманизм"! Он теперь – светоч милосердия! А тот… Милан… где он теперь? В какой подворотне гниет? На каком помойке ищет корм для своей ласточки? А моя… моя девочка… – Голос сорвался. В горле встал ком, горячий и колючий. – Она зовет меня "дядей". Потому что ее отец… ее настоящий отец… умер. Здесь. В этой гробнице. И этот… этот ублюдок! – Он тряхнул газетой, словно хотел стряхнуть с нее изображение. – Он разбил жизни, как мальчишка разбивает игрушки! И ему – награды! Ему – почести! Ему – аплодисменты!
Ярость. Она пришла не волной, а взрывом. Не извне, а из самой глубины, из-под того холодного камня, который он годами носил в груди. Камень треснул. Из трещины хлынула лава – черная, обжигающая, всепоглощающая. Не усталость. Не апатия. Не бессилие. Чистая, неразбавленная ярость. Она сожгла остатки оцепенения, выжгла пустоту, наполнила жилы не кровью, а расплавленным свинцом. Марк задышал часто, прерывисто. В ушах зашумело. Перед глазами заплясали красные пятна. Он сжал газету так, что костяшки пальцев побелели, а бумага смялась в бесформенный комок.
– Они купили его! – зарычал он, обращаясь уже не к киту, а к теням всего музея, к окаменелостям, к чучелам. – Деньги! Папины деньги смыли кровь с его рук! Отбелили душу! Превратили убийцу в филантропа! А я?.. – Он ударил себя кулаком в грудь. Глухой стук отозвался под сводами. – Я чинил! Чинил разбитое! И что? Что я починил? Тело? Чтобы душа сгнила в нищете и бессилии? Чтобы моя собственная душа… – Он осекся. Внезапная, острая боль пронзила грудь – не от удара, а от осознания. Он был соучастником. Соучастником этой лжи. Он спас тело Милана для медленной смерти. Он спас Давида Дронова в ту ночь, чтобы тот продолжил свое безнаказанное существование. Его мастерство, его скальпель – они служили системе, которая перемалывала одних и возносила других. Он был полезным идиотом в их игре.
– Нет! – Рев вырвался из его глотки, дикий, нечеловеческий, потрясая застоявшийся воздух. Эхо подхватило его, размножило, заставило вибрировать стекла витрин в "Зале Птиц". Чучело ястреба в вечном пике, казалось, вздрогнуло. – Нет! Не идиот! Больше не идиот!
Он развернул газету, снова глядя на улыбающееся лицо Давида. Улыбка казалась ему теперь не просто лицемерной. Она была плевком. Плевком в лицо Милану. В лицо Бояне. В лицо его собственной дочери. В лицо ему самому, Марку Долвинову, когда-то верившему, что его руки спасают не только тела, но и что-то большее. Эта улыбка была символом торжествующего зла, прикрытого глянцем благотворительных балов и позолоченных наград.
– Ты думаешь, ты выиграл? – прошептал он, впиваясь взглядом в фотографию. Голос его был тихим теперь, но от этого еще страшнее. В нем булькала та самая лава ярости. – Ты думаешь, твои деньги смыли все? Твою вину? Твою пустоту? Ты думаешь, что "неприятный инцидент" забыт? Он не забыт. Он здесь. – Он ткнул пальцем себе в грудь. – Он во мне. Он в каждом крике боли того, кого ты сломал. Ты не заслужил награды, Давид Дронов. Ты заслужил… возмездия.
Слово повисло в воздухе, тяжелое, как гиря. "Возмездие". Не справедливость. Ее не было в этом мире. Ее съели деньги Дроновых. Возмездие. Дикое, неконтролируемое, личное. Оно родилось из трещины в камне его души, из смеси ярости, отчаяния и последней, отравленной капли унижения. Он не был больше врачом. Врачи бессильны против этой болезни. Он был… чем? Обиженным? Мстителем? Тенью, вырвавшейся из склепа?
Он подошел к керосиновой лампе на столе в каморке. Пламя внутри колбы дрожало, бросая неуверенные тени на стены. Марк разгладил газету на столе, прямо под лампой. Лицо Давида Дронова смотрело на него с бумаги. Улыбалось. Марк снял стеклянный колпак лампы. Пламя вырвалось на свободу, заколебалось на сквозняке. Он поднес газету к огню.
Край бумаги почернел мгновенно. Потом вспыхнул ярко-оранжевым язычком. Огонь пополз вверх, пожирая заголовки, текст, фотографию. Лицо Давида скривилось в гримасу, почернело, свернулось в пепел. Жар опалил пальцы Марка, но он не отдернул руку. Он смотрел, как огонь пожирает символ торжествующей несправедливости. В пламени ему виделось другое лицо – Милана, искаженное болью и безнадегой. Виделась Бояна с глазами, потухшими от отчаяния. Виделась Кира, отвернувшаяся от "дяди Марка". И виделся он сам – призрак в музее теней.
Пламя добралось до его пальцев. Он бросил горящий комок на бетонный пол каморки. Огонь шипел, борясь с грязью и пылью, пока не превратился в кучку черного пепла и тлеющих угольков. Запах гари, едкий и резкий, смешался с привычными запахами тлена и керосина. Марк стоял над пеплом, дышал тяжело, грудь вздымалась. Лава ярости внутри не остывала. Она находила русло. Узкое, темное, ведущее не к свету, а в другую тьму – тьму действия.
– Хирург… – он произнес слово с горькой иронией, глядя на свои руки. Руки, которые когда-то творили чудеса на операционном столе. Теперь они были дрожащими, запачканными сажей, но в них вдруг вернулась сила. Не сила спасать. Сила разрушать. – Хирург режет, чтобы исцелить. Я… я буду резать, чтобы наказать. Чтобы вскрыть эту гниль. Чтобы показать миру, что скрывается под позолотой "Золотого Сердца".
Он подошел к маленькому, закопченному зеркалу, висевшему над умывальником. Лицо в отражении было ему чужим. Изможденным. Покрытым слоем грязи и пыли. Но глаза… Глаза горели. Не тусклым огнем апатии, а холодным, стальным блеском ярости и решимости. В этих глазах не было жизни. Но в них появилась цель. Мрачная, опасная, как лезвие скальпеля, направленное в сердце не болезни, а человека.
– Ты хотел забыть "неприятный инцидент", Давид? – прошептал он своему отражению, и в углах его губ дрогнуло подобие улыбки, лишенной всякой теплоты. – Я напомню. Напоминаю. Не как доктор Долвинов. Как тень. Как призрак твоего прошлого. Как возмездие.
Он повернулся от зеркала. Взгляд его упал на ключи, валявшиеся в углу – те самые, что Альбина бросила в пыль у скелета кита. Он поднял их. Холодный металл уже не обжигал. Он казался нейтральным. Инструментом. Возможно, последним инструментом в его жизни. Он сунул ключи в карман шинели. Не как память о прошлом доме. Как символ того, что назад дороги нет. Есть только путь вперед. В мрак. К Давиду Дронову.
Он вышел из каморки, прошел мимо пепелища на полу, мимо скелета кита, чьи ребра все так же бросали на пол тень креста. Но теперь он не чувствовал себя распятым. Он чувствовал себя заряженным. Как ружье, в которое вложили патрон после долгих лет простоя. Порох ярости был воспламенен. Оставалось только направить ствол.
Марк подошел к забитому фанерой окну. Сквозь щель пробивался луч дневного света – слабый, серый, питерский. Он встал в этот луч. Пыль, вечная пыль музея, закружилась вокруг него в свете, как микроскопические вихри ада. Но он не видел пыль. Он видел дорогу. Дорогу мести. Первый шаг был сделан. Не ногой. Сердцем. Камень разбился. На его месте теперь пылал вулкан. И первая искра уже выжгла имя на его душе: "Мститель".
Он глубоко вдохнул воздух, пахнущий гарью, пылью и тлением. Вдохнул и ощутил странное, давно забытое чувство – он еще дышал. И пока он дышал, у него была цель. Темная. Опаляющая. Единственная.
Глава 9
Солнце. Оно ворвалось сквозь щель в забитом фанерой окне каморки не лучом, а раскаленным клинком, упершимся прямо в зрачок Марка. Он зажмурился, отшатнувшись, как вампир от священной воды. Боль. Острая, живая, незнакомая. Годы музейного сумрака превратили дневной свет в орудие пытки. Он стоял посреди своего царства пыли и теней, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, оставляя полумесяцы боли – единственное реальное ощущение в этом новом, абсурдном мире действия. Ярость, та самая лава, прорвавшаяся из трещин камня в груди, еще клокотала, но уже оседала тяжелым, вязким шлаком целеустремленности. Она требовала не воплей в пустоту зала с китовым скелетом, а движения. Хирургического расчета. Первого разреза в гнилой плоти жизни Давида Дронова.
Он вышел на улицу. Не ночью, как сторож, а средь бела дня, и сам этот факт казался ему предательством по отношению к музею и к себе-призраку. Город встретил его грохотом, вонью выхлопов, хаотичным мельтешением людей – агрессивной, чуждой жизнью, от которой он отгородился годами. Здания давили высотой, асфальт плыл под ногами, лишенный привычной твердости музейного паркета. Он шел, втиснутый в старые, пахнущие нафталином брюки и вытянутый свитер Альбины (единственное, что он взял из прошлого, кроме ключей-улики), ощущая себя нелепым пауком, выползшим из-под плинтуса на яркий свет. Каждый взгляд прохожего казался ему обжигающим – осуждением, насмешкой над его жалким видом, над самой попыткой что-то изменить. Но камень в груди, вернее, то, что от него осталось – раскаленная магма решимости – гнал вперед. Он направлялся в Публичную библиотеку. Храм слов, где, возможно, хранились ключи к разрушению храма лжи Дронова.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.