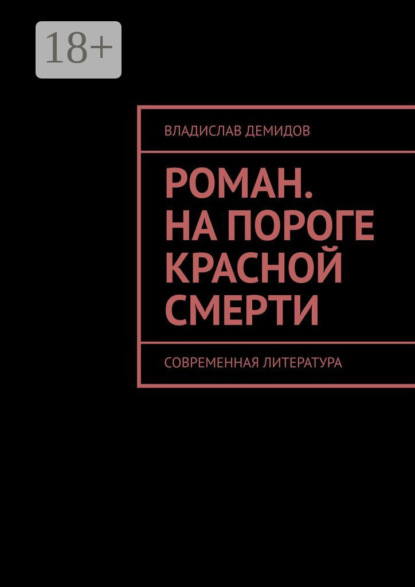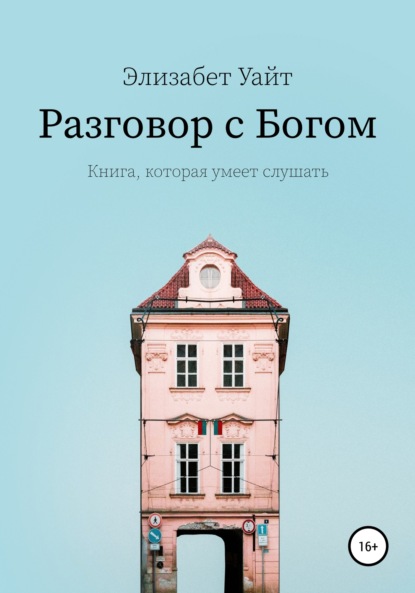За солёными туманами
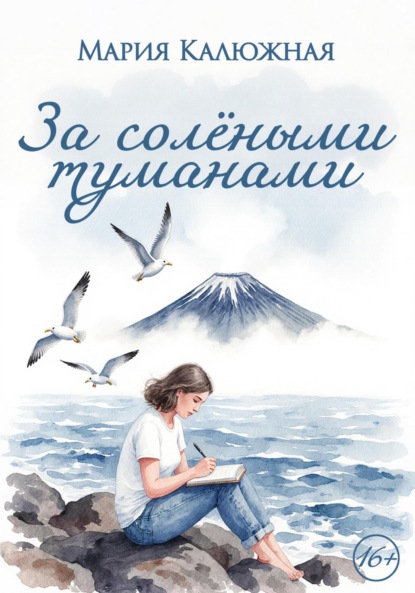
- -
- 100%
- +

Вместо предисловия
Время – ресурс странный. Казалось бы, только недавно мы были детьми, бегали по школьным коридорам, слонялись без дела с наслаждением после уроков, влюблялись, мечтали, строили планы… И вдруг начинаешь осознавать, что было это уже несколько десятилетий назад, «в прошлом веке», а твоя школьная форма – экспонат школьного музея.
«Союз нерушимый республик свободных…» – слова, которые навсегда засели в подкорке выросших в СССР и тихонько звучат из глубины души параллельно с современными словами музыкального символа России.
Все чаще сжимается сердце от безвременного ухода мальчишек и девчонок, улыбающихся со старых черно-белых фотографий школьного альбома.
Растворилась в прошлом целая эпоха, навсегда исчезла большая стабильная «нерушимая» страна, но есть еще теплые редкие встречи с теми, кто знал тебя открытым, беззаботным, беспечным…
Эх, только бы не потерять возможность остановиться в скоротечной жизни, не утратить желание общаться, сохранить оставшуюся детскость, позволить себе хотя бы ненадолго вернуться туда, где было уютно и безопасно, где родители были молодыми, хлеб – дешевым, конфеты – натуральными, а мечты обязательно сбывались.
Воспоминания маленькой девочки, родившейся и выросшей в небольшом военном гарнизоне на Камчатке, переплетаются с деталями советской жизни. Отдельные, казалось бы, не связанные между собой сюжеты, как модули общей мозаики постепенно складываются в общую картину становления личности.
Есть произведения, которые читают запоем, увлекаясь сюжетом, пытаясь приблизить развязку. Есть другие: неспешное чтение, погружение в воспоминания, желание обсудить прочитанное. Это произведение именно такое. Иногда возможность остановиться важнее достижения результата…
С любовью к моим родителям, благодарностью к одноклассникам и с уважением к тому времени, которое сделало нас такими, какие мы есть, написана эта книга.
Глава 1. Про детский сад и «воспитание зайцем»
В воздухе пахло холодными арбузами и хрустящими льдинками. Взлохмаченные воробьи толкались и брызгались в мелких лужицах. Анечка подставила носик ободранного ботиночка под капающую сосульку. Капли отскакивали в стороны на кружево блестящих льдинок, покрывающих жесткой коркой потемневший снег. Весна. Теперь совсем недолго до встречи с бабушкой. Еще немножко подождать.
Лето у бабушки наступает рано, а здесь… Но родители его не ждали, а просто покупали билеты и каждый год в июне летели в лето. Дальний Восток: наверное, он называется «дальний» потому, что далеко от бабушки. Не то чтобы ей здесь не нравилось. Она просто не думала об этом в своем глубоко «добальзаковском» возрасте.
– Дети, собираемся! Встали парами, идем на обед! – громко объявила воспитательница. Анечка захрустела по блестящим льдинкам к своей паре.
В группе стоял запах горячего горохового супа, картофельной пюрешки, компота и предстоящего двухчасового дневного сна. Дети стягивали мокрые варежки, соединенные между собой длинной растянутой резинкой, черные кроличьи шапки, пытались поставить ровно сапожки и ботиночки, впихивали в узкие шкафчики объемные мутоновые шубки и, заплетаясь в цветных хлопковых колготках, бежали мыть красные от холодного снега ладошки.
– Какая она красивая, эта Леночка! – подумала Аня. Леночка, девочка с широко поставленными светло-карими глазами и крупным носом, действительно считалась по детсадовским меркам красивой. Она каждый день приходила в белых колготах и блестящих туфельках, с красивым ажурным бантом в густых русых волосах, была вежливой и, судя по тому, что колготки оставались белыми до конца детсадовского рабочего дня, очень аккуратной. Вокруг Леночки всегда толпились дети. О чем они говорили, Анечка не знала, а подойти и послушать и уж тем более предложить дружить боялась. Она вообще любила сидеть на жестком деревянном стульчике, украшенном ягодками или грибочками, и, уткнувшись носом в пушистый искусственный мех большого медведя, наблюдать за детьми.
Однажды, когда мама привела ее в группу первый раз после целого года у бабушки, воспитатель позвонила родителям на работу и предложила забрать Анечку, которая сидела в обнимку с медведем и отказывалась от игрушек, обеда и всяческих педагогических ухищрений.
– Ты почему ни с кем не познакомилась? Почему не ела? Воспитателя не слушала? – учинила дочери дома допрос Аллочка.
– Я думала, вы меня оставили и уехали к бабушке, – сказала Аня.
– Мы же на работу ходим! Завтра опять в садик пойдешь, – пояснила мама. Анечка поняла безысходность ситуации, осознала, вздохнула и, поскольку разговор не предполагал развиваться дальше, поплелась смотреть в окно.
На следующий день Леночка, держа за длинные пушистые уши зайца, подошла к Ане. «Вот, мы уезжаем, возьми его. Мама разрешила подарить игрушки детям», – сказала девочка, протягивая зайца Ане. Сердце Анечки сжалось, худое тельце как-то отвердело… Странный чужой голос из этого тельца выдавил «спасибо». Лена улыбнулась и добавила: «Точно можно, бери!». Она развернулась и пошла раздавать другие игрушки. Анечка по своему небольшому опыту и по разговорам взрослых точно знала, что тот, кто уезжал с Камчатки, уезжал навсегда и больше не появлялся. До знакомых доходили слухи о том, кто и как устроился, иногда люди ездили к уехавшим в гости, но обратно уехавшие точно не возвращались. Письма шли долго, заказывать переговоры на почте вечно не было времени, постепенно стирались из памяти лица, забывались имена, жизнь продолжалась без них.
Анечка сжала зайца. Как жалко! Леночка больше не будет ходить к ним в группу, а значит ничего интересного в садиковской жизни больше не будет… Единственное воспоминание – заяц. Его можно везде брать с собой, а значит, помнить Леночку.
Вечером за Аней пришел папа. При папе можно было не молчать, не слушать «то, что тебе говорят», а просто быть обычной девочкой. Папа Коля, не смотря на заботу и неподдельный интерес к тому, что происходило в садике, все же обладал всеми признаками детсадовского папы и не очень-то обратил внимание на зайца, который тоже пошел с ними домой. Зато мама…
Вопрос о зайце возник сразу, как только заяц переступил порог однокомнатной квартиры. «Да пусть оставит его! Девочка же уезжает, ей не нужно», – уговаривал Аллочку Коля. Мнение Коли для Аллочки решительно не играло роли. Не смотря на свое высшее образование и уважение на работе, домашний Коля мог говорить все, что угодно, но авторитет его как-то съеживался, затихал и в результате впадал в анабиоз перед любимой супругой. «Нельзя брать чужое!» – твердо заявила Аллочка, оделась и вытолкала Аню в подъезд.
Аллочка держала за руку Аню, Анечка – зайца, заяц пытался зацепиться лапой за всё, что попадалось на земле: камешки, фантики от конфет, льдинки. Так втроем они дошли до квартиры, где жила Леночка. В коридоре у Леночки был полумрак, стояли приготовленные к отправке большие коробки, валялись вперемежку детские и взрослые ботинки и тапочки, пахло суетой. Люди, как было принято говорить, «сидели на чемоданах». Несколько минут, пока мамы доказывали друг другу, что «зайца – я – разрешила – подарить» и «не – надо – у нас есть – игрушки – спасибо – и что-то – там – еще – какие-то – доводы», Анечка исподлобья смотрела на Леночку. Та в домашней обстановке вовсе и не была хороша: тоненькие длинные ножки с узелками коленочек, дырявые затертые тапочки, ситцевый бледный халатик. А зайца жаль. Он по-прежнему был хорош…
«И не бери больше ничего ни у кого!» – грозно выговаривала Алла, когда они возвращались домой. Анечка хотела спросить, почему, но Алла так тащила ее за руку, что хотелось повиснуть как тот заяц несколько минут назад и цепляться за камешки, фантики и льдинки…
Через много лет уже взрослая самодостаточная Анна никак не могла отделаться от мысли, что она до сих пор не такая-то и умная, раз не может объяснить, почему мама не разрешила ей взять того, будь он неладен, зайца.
Спросить у Аллы об этом она считала бесполезным – взрослые часто забывают то, что для ребенка считалось целым событием. Вероятно, Алла решила, что Аня взяла этого зайца без спроса, но, убедившись, что это не так, признать свою ошибку не смогла. То, что взрослые не ошибаются – иллюзия, с которой расстаешься с годами…
Аллочка была обычным «продуктом» своего времени, Аня – ребенком этого «продукта», который воспитывался общепринятыми инструментами. Вот только все вырастали разными. Жизнь – уникальный мастер, который и с примитивными инструментами может получать разные результаты…
Глава 2. Про игрушки, мороженое и туалетную бумагу
Игрушек у Анечки было немного и большинство из самого безвредного и популярного в то время материала – пластмассы. Разноцветные кубики, собака с коричневым ухом, большой советский пупс, которого Алла почему-то называла «Саша», кремового цвета «Волга», небольшая кукла Галя, желтый, побитый жизнью, выцветший лев…
Саша всячески сопротивлялся, когда Аня пыталась завернуть его в «кулечек» и представить, что это настоящий малыш: торчащие конечности и растопыренные пальчики делали его похожим на морскую звезду. «Волга» очень нравилась Алле. Возможно, она представляла, что когда-нибудь у нее будет автомобиль. «Белый Бим черное ухо», как называл пластмассового пса Коля, вызывал у Ани небольшое подозрение. Ухо было явно коричневого цвета, и видимо, пес немного стеснялся прилепившейся к нему клички, всячески намекая выпученными глазами на цветовое несоответствие. Лев, кубики и лохматая Галя иногда могли скрасить убогость игрушечного советского мира, но особо не котировались.
Был еще медведь. Звали его просто Миша. Кто и когда его купил, Аня не помнила. По ее меркам он был всегда: большой, лохматый, желтый, с янтарными глазами и тяжелым, набитым опилками телом. Миша покряхтывал, когда его брали в руки, и издавал протяжный низкий рык, когда кто-нибудь переваливал его с боку на бок. Медведь был импортным, немецким, но в силу долгого пребывания в советском магазине приобрел черты советского гражданина: умел выслушивать, понимать и поддерживать в трудную минуту. Делал он это молча, а умные грустные глаза придавали морде сочувствующее и понимающее выражение. Спать с ним было неудобно, однако ему вполне можно было доверить перед сном все детские тайны. Наверное, у каждого в детстве должен быть такой «медведь» …
Игрушечного магазина в поселке не было, а игрушки продавались как сопутствующие товары в универмаге и книжном магазине. Аня даже не представляла, что бывают магазины, в которых игрушек так много, что они едва помещаются на полках, а в магазине так просто заблудиться.
Однажды она оказалась с родителями в московском «Детском мире». В Деда мороза Аня почему-то не верила, а может, просто не помнила, что верила раньше. Но тут поняла: чудо все-же есть!
Увидеть, что продается за плотно стоящими телами живой очереди, конечно, возможности не было, но вот часы! Огромная бревенчатая избушка с резной крышей и ажурным забором, веселые деревянные человечки, устраивающие целое представление на парапете, желтое солнышко-циферблат, открывающее медленно глаза, а еще… Открывающиеся дверки, из которых вдруг выскакивала кукушка! Заиграла музыка, забили детскомировские куранты и нижняя челюсть Анечки медленно поползла вниз.
«Пойдем. Здесь народу много!» – сказала Алла и выдернула из этого чуда ошарашенную Анечку. «Коля, отведи ее, пусть подождет у магазина», – сказала она, передавая ему вмиг возвратившуюся в себя дочь. Анечку посадили на широкую бетонную плиту, окружающую вход в подземный переход, и приказали не уходить, а ждать. И она ждала. Просто сидела на жаре и смотрела на людей. И совсем не было скучно.
Обтягивающие футболки и рубашки с закатанными на три четверти рукавами, пестревшие надписями на непонятных языках, мини-юбки, заканчивающиеся слишком высоко от круглых советских коленок, клеши, позвякивающие металлическими монетками, приталенные яркие батники и подчеркивающие силуэт коротенькие платьица… Какие-то перышки и ленточки в волосах, желтовато-блондинистые волосы, не нуждающиеся в дополнительных деталях, «пажи», «гавроши» и «сэссуны», стильные конские хвосты, крупные волнобразные локоны … Все это превращалось в веселую удивительную мозаику – подвижную, постоянно меняющуюся в душном горячем июньском воздухе.
Тяжело ступая, прошла дородная счастливая женщина, обвешенная гирляндами из рулонов туалетной бумаги. Дефицит! В то время конкуренцию серым плотным «туалетным» рулонам составляла простая советская газета, что порождало много анекдотов:
– Доктор, у меня там что-то шуршит!
– Пациент, да у Вас там газета!
– Правда?
– Да нет, «Известия»!
Шутили, что СССР – самая читающая страна в мире из-за нехватки туалетной бумаги и что, когда американские военные отправляются на войну, за ними едет грузовик с туалетной бумагой. В СССР «туалетную мечту» делали из обычной древесины, а идея делать ее из переработанного сырья пришла гораздо позже. Несмотря на все недостатки туалетного «чуда», люди были по-настоящему счастливы, когда им удавалось отстоять очередь и получить по пять – восемь рулонов в одни руки. Остальные же продолжали пользоваться печатными изданиями, разрезая их на кусочки или отрывая и теребя для мягкости в руках. Характерное шуршание из туалета означало, что статья прочитана и процесс подходил к завершению…
Анечка увидела Колю, который возвращался из магазина, а рядом с ним – стайку удивительных темнокожих веселых девчонок с сотней тонких черных косичек! «Иностранцы. Из Африки, – сказал Коля, – ты маму не видела?» Анечка сказала, что не видела, и Коля ушел ее искать. Потом приходила мама, опять папа и опять мама… Да, выйти из «Детского мира» было можно, а вот найти друг друга внутри, если не договориться о месте встречи, сложно.
Наступил вечер, родители наконец-то обрели друг друга, довольно вручили Ане небольшую немецкую куклу и, подхватив коробки и пакеты из плотной коричневой упаковочной бумаги, которая теперь гордо называется «крафтовой», пошли к ближайшему уличному автомату с газированной водой. Сироп из сахара, лимонного сока или травяного экстракта: сплошной советский ГОСТ за три копейки, непреодолимое желание советских детей и взрослых, а уж камчатских детей, где автоматы с газированной водой так и не появились, тем более.
Нещадно эксплуатируемый граненый стакан, очередной раз искупавшийся в фонтанчике автомата, был наполнен фыркающей пенящейся жидкостью и вручен Ане. Сильная жара и приторно-сладкий вкус сделали свое дело: ребенок не смог допить жидкость до конца. Алле это не понравилось. Ей нравилось, когда все любили то, что нравится ей. Поручив «допивание» Коле, она обратила взор своих бесподобно красивых глаз на киоск с мороженым.
Советское мороженое… Пломбир в хрустящем вафельном стаканчике, сливочное с масляной кремовой розочкой, фруктово-ягодное, «Ленинградское», вафельный рожок, «Морозко», молочное, «Крем-брюлле» и верх искусства – аж за 28 копеек – эскимо «Каштан» в шоколадной нерассыпающейся глазури!
Дальний Восток, где Аня находилась с самого рождения, научил ее любить копченую кету, котлеты из горбуши и вкусную нехлорированную чистую воду из-под крана. Невиданное разнообразие мороженных изысков ввело ее в ступор, она с опаской посмотрела на Аллу и… выбрала, как ей казалось, самое вкусное: мороженое с веселой красной помидоркой в картонном стаканчике и налепленным сверху бумажным кружочком, информировавшим о ГОСТе и производителе.
– Вот еще! Фу! – охарактеризовала выбор дочери Аллочка и вручила ей шоколадную «Лакомку», обсыпанную вафельными крошками. Такое же чудо было приобретено для самой Аллы и верного пажа Коли. Шедевр был завернут в бумагу-трубочку, есть было неудобно. Мороженое капало с двух сторон, липло к пальцам и норовило попасть на платье. Аня опять не оправдала ожиданий и отдала остатки маме. Остатки были перенаправлены в Колин рот.
Дневная жара постепенно превращалась в тягучее медленное тепло, семья спустилась в метро. Неповторимый ароматный ветер московского метрополитена, впитавший в себя запахи пропитанных креозотом деревянных шпал и металлической пыли вентиляционных каналов, обдувал торопящихся советских граждан. Семья загрузилась в вагон электропоезда и полетела на ночлег к бывшим камчадалам, обосновавшимся в столице.
Несмотря на отсутствие сотовых и порой даже дисковых домашних телефонов, а также сложности с дозвоном в другой город – приходилось идти на переговорный пункт и ждать, когда телефонистка соединит с нужным абонентом, – дальневосточники все же добивались поставленной цели. В преддверии отпуска они находили заветные номера телефонов через друзей или знакомых и дозванивались до «бывших», проживающих ныне в городах, куда прилетали самолеты с Камчатки: в Москву или Ленинград.
Пахнущие рыбой и долгим перелетом, счастливые в связи с наступившим отпуском камчадалы вваливались в квартиры уставших от городской суеты и ранних подъемов на работу «материковцев». Угощали икрой и рыбой, вспоминали всю ночь совместно прожитые годы, рассказывали о том, как живут на Камчатке друзья или родственники столичных знакомых.
К утру замученные хозяева квартиры плелись в спальню, чтобы вздремнуть и через пару часов подняться на работу, а возбужденные камчадалы, поспав чуть дольше, поднимались в предвкушении исследования столицы. Девятичасовая разница во времени никак не мешала их позитивному настрою, а энергии хватало на стояние в очередях по несколько часов. И еще непременно Красная площадь, Мавзолей, музеи и театры, прогулки по шумным московским улицам.
Вечерами обсуждались покупки и экскурсии, а уставшие от бесконечных дальневосточных гостей москвичи неподдельно удивлялись тому, сколько мест можно посетить за один рабочий день. Осторожно спрашивали, удалось ли гостям приобрести билеты для продолжения отпуска в других городах необъятной Родины и, получив утвердительный ответ, облегченно вздыхали.
Так проходило около недели, после которой хозяева, накрыв перед расставанием праздничный стол, искренне радовались отъезду гостей и рассказывали о секретном месте для ключа от квартиры, если гости уезжали позже, чем хозяева уходили на работу.
Ключ следовало положить под коврик у двери или бросить в почтовый ящик. Каждый в СССР знал, что в этих местах действительно при необходимости иногда оставляли ключи. Знали это и представители воровского мира, но заглядывать под коврик каждой советской квартиры не было необходимости, ведь большинство советских граждан имело одинаковый уровень жизни, одинаковую мебель и похожую жизнь.
Аллочка, Коля и Аня, перетащив через порог сумки и пакеты, счастливые и уставшие вползли в московскую квартиру. Хозяева встретили их с улыбкой. И почему-то Аня вспомнила фразу из книжки про Винни-Пуха: «А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, потому что Кролик был очень воспитанный».
Глава 3. Про Первое мая, праздничный стол и чудо-фломастеры
Первомайская демонстрация! К ней в советское время начинали готовится почти за месяц: оставались после работы, рисовали агитационные плакаты, делали разноцветные цветы из яркой гофрированной бумаги, приводили в порядок флаги, выводили белой краской на алой ткани транспарантов патриотические лозунги, очищали от накопившейся пыли портреты вождей мирового пролетариата и членов Политбюро…
Детям нравился этот праздник за красочность, веселье и воздушные шарики, подросткам – за возможность пошутить и потусоваться до, во время и после демонстрации, взрослым – по разным причинам. Некоторым все это нравилось не очень, но об этом говорить было не принято.
Рано утром Алла завязала Анечке два банта, выдала нарядное платье и белые колготки. Коля надул три больших воздушных шарика и привязал их к тонкой деревянной палочке. Он считал, что так их удобней нести и поднимать, приветствуя очередной вылетающий из громкоговорителя лозунг. Семья выдвинулась к месту сбора представителей будущей колонны – средней школе – месту работы Аллы и Коли.
У школы толпились учителя, завучи и старшеклассники. Кто-то уже держал веточки с бумажными цветами, флажки, шарики, гвоздики. Остальные ждали, когда им выдадут атрибутику для демонстрации безапелляционной борьбы с капитализмом во всем мире. Взяв инициативу в свои руки, Коля повел подростков за этой самой атрибутикой. Приподнятое настроение, шутки, громкие разговоры, какое-то внутреннее волнение – все говорило о готовности поскорей пройти по центральной и единственно широкой улице небольшого военного поселка.
«Мальчики, транспаранты должны быть растянуты, чтобы было видно лозунги! Девочки, после каждого приветствия надо махать цветами и флажками! Построились в колонну по четыре!» – отдавались классными руководителями последние наставления. Через несколько минут нестройная колонна двинулась по намеченному маршруту, чтобы влиться с другими такими же колоннами во всеобщее ликование.
У Коли была особая миссия: запечатлеть процесс на пленку своего фотоаппарата. «Смена 8» заинтересованно выглядывала из коричневого кожаного футляра, выбирая наиболее «патриотичные» кадры: портреты Маркса-Энгельса-Ленина-Гречко-Косыгина-Устинова, лозунги «Да здравствует Первое Мая – День международной солидарности трудящихся!», «Решения… съезда КПСС – в жизнь!». Сидящие на плечах отцов дети с интересом наблюдали за борцами с капитализмом и тоже удостаивались внимания «Смены».
Вокруг царило приподнятое настроение: впереди колонны – трудовик и физкультурник несли эмблему школы, за ними шли учителя с «цветущими» веточками, а дальше – живая веселая цветная масса из учеников, транспарантов, шариков, стягов и шуток. «Вперед, к победе коммунизма! Да здравствует Первое мая! Ура, товарищи!» бодрил колонны трубный голос невидимого диктора. «Ура-а-а-а!» – неслось волной над колоннами, и в это приветствие вливалась вся молодая, неуемная подростковая энергия. Анечка болталась между высоких мальчишеских фигур и тонких, стройных девчачьих ножек, смотрела на них снизу вверх, поднимала палочку с шариками выше и тоже попискивала: «Ура!».
Шествие наконец-то завершилось, и борцы за коммунизм, разбившись на группы, направились на вторую долгожданную часть Первомая: праздничный обед.
– К кому пойдем? – спросила Алла своих подружек-коллег, сгруппировавшихся возле нее после демонстрации.
– Ну, давайте в этом году к нам! – предложила статная, хорошо одетая Мария Васильевна, учитель начальных классов.
– Тогда собираемся и через часик у Вас! – радостно защебетали коллеги и полетели за салатиками и прочими заготовленными заранее вкусностями.
Традиции нарушать нельзя! Все знали, что после демонстрации следует объединиться, как пролетарии всех стран, и в ожидании первомайского концерта продолжить сплочение во имя светлого будущего. Учителя тоже не были исключением.
На праздничном столе занял свое постоянное место салат «Оливье», рядом пристроилась «Мимоза», чуть дальше – половинки яиц, начиненных тресковой печенью, квашеная капуста, политая жареным луком вареная картошка, традиционная для Камчатки тарелка с нарезанной копченой рыбой и дефицит. Куда же без него? Тонко нарезанная сырокопченая колбаса с крупным жиром и ярко пахнущие бутерброды с рижскими шпротами. Советское шампанское, гордая «Пшеничная», веселый «Буратино» и сливочный «Крем-брюле» возвышались над всем этим изобилием.
Ане нравилось смотреть на поднимающиеся со дна бокала пузырьки, которые, добравшись до верха, начинали толкать маленький кусочек шоколадки, брошенный туда то ли для вкуса, то ли для забавы. А еще ей ужасно нравилось играть с лошадкой. Взрослые делали ее из алюминиевой пробки – «бескозырки»: четыре спички-ножки, воткнутые в хлебный мякиш, расположившийся в согнутой «бескозырке», и тупая алюминиевая морда. Нравилось ей и название бутылки из-под водки – «Чебурашка». Только вот почему ее так называют, она не знала, а родители объяснить не смогли.
В то время детям не положено было сидеть за столом вместе со взрослыми. Аня получила свою «лошадку», тарелку с салатом и картошкой, кусочек любимого лакомства – красной рыбки, и отправилась есть на кухню вместе с дочерью хозяев. Потом они тихонько перебрались в детскую, где и провели остаток праздника.
Из большой комнаты слышались праздничные песни Кобзона и Лещенко, обсуждение великолепных нарядов Пьехи, споры о политике и школьных кулуарных «группировках», о предстоящем отпуске и трудностях с приобретением билетов на самолет. В детской комнате примерялись бумажные вырезанные наряды на собственноручно нарисованную куклу, обсуждали «Денискины рассказы» и «Приключения желтого чемоданчика», показывались с гордостью импортные дефицитные фломастеры.
Гораздо позже, в восьмидесятых, фломастеры появились в свободной продаже, а тогда… Их привозили военные папы, которые побывали «за границей». Настоящие, японские, с большеглазыми красивыми девочками на белом фоне. Говорят, что первый патент на фломастеры был выдан японскому изобретателю аж в 1942 году! Однако прототип был найден еще при раскопках египетских пирамид: тонкие медные трубочки со стрежнем из тростника, пропитанным чем-то вроде чернил. Как говорится, новое – хорошо забытое старое.