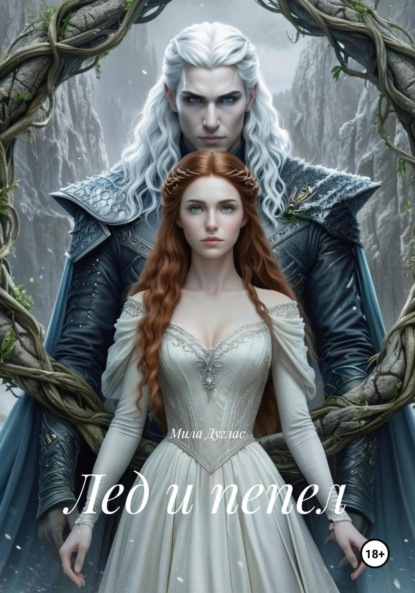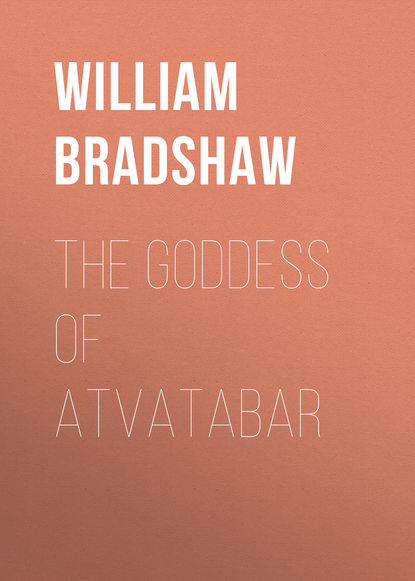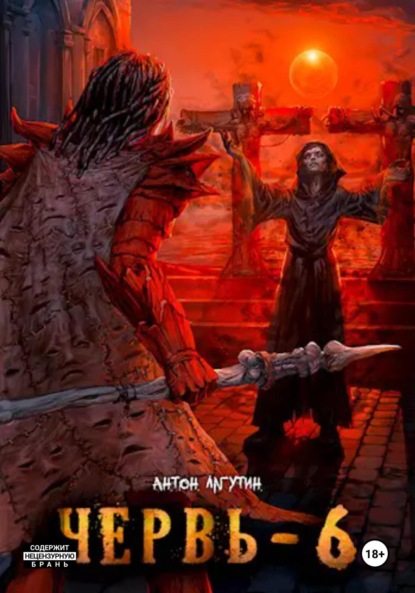За солёными туманами
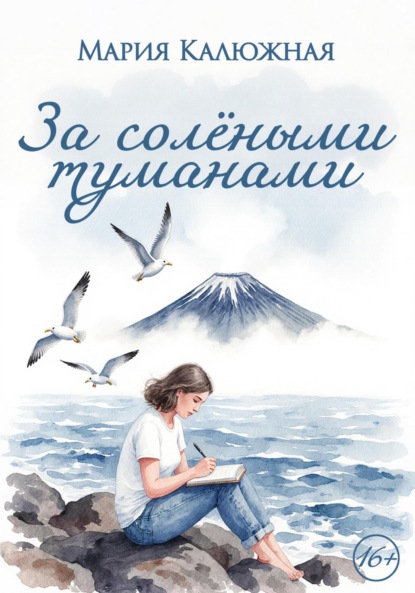
- -
- 100%
- +
Алла и Коля часто приводили её в школу, забрав вечером из садика. Сидя на задней парте, она наблюдала за мальчишками и девчонками, которые громко и весело обсуждали что-то на классных часах, готовились к мероприятиям или просто дурачились и получали удовольствие. Она знала расположение кабинетов, не любила резкий звонок, стеснялась учителей, друзей Аллы и Коли и побаивалась вечно хмурого директора. Школа не была для неё чем-то особенным, поэтому первое сентября означало просто начало чего-то нового. Хотя … был страх. «Вдруг не получится учиться хорошо? Вдруг я не понравлюсь первой учительнице? Вдруг маме и папе будет стыдно за меня?» – думала Аня. Неуверенности у неё было столько, что ею можно было вполне поделиться с окружающими.
На крыльце школы читали стихи талантливые дети, что-то говорили учителя и какие-то важные приглашенные люди. Такие речи обычно не особо слушаются, да и не запоминаются. Но вот ощущения…
Речи закончились и новоиспеченных школьников начали «разбирать» старшеклассники, чтобы провести по школьным коридорам в классы – место старта новой, почти взрослой жизни. «Давай руку!» – произнес высокий худой мальчик и протянул Ане ладонь. Ладонь была холодная, с подрагивающими тонкими пальцами. С правой стороны от старшеклассника пристроилась Аня, с левой – Савка. Нестройная колонна бывших детсадовцев поднялась на крыльцо школы, прошуршала по узким школьным коридорам, поднялась на второй этаж, зашла в класс, где предстояло провести четыре года и, свалив в цветочную кучу свои букеты, по команде учительницы рассыпалась по партам.
Первый день в школе состоял из объяснения правил поведения и трех уроков. В то время первое сентября выходным не было, да и вообще многое было по-другому. Выходной был только один – воскресенье, школьные кружки и секции были по желанию и посещались далеко не всеми, уроки даже в первом классе были по сорок пять минут, обучение проводилось в две смены и все это длилось не одиннадцать, а десять лет.
На партах еще оставались небольшие углубления для чернильниц, но ручки уже поменялись на шариковые. Вместе с перьевыми ручками ушли в прошлое и уроки чистописания – каллиграфия. Споры о пользе и вреде авторучек не утихают до сих пор.
Сторонники перьевых утверждали, что такие ручки учили писать чисто и разборчиво, приучали к аккуратности, правильно ставили руку и были в соответствии с психофизическим развитием детей: частота нажатий на перо совпадала с сердечным ритмом ребёнка. Защитники шариковых считали задержку дыхания и сбой сердечного ритма во время письма ерундой и ратовали за прогресс. Дети писали тем, чем было положено на тот момент. Однако Ане очень нравились перьевые ручки, которые по-прежнему оставались в обиходе на почте. Их можно было макать в «непроливайки» и выводить четкие разной толщины буквы или рисовать человечков на бланках для телеграмм.
Впечатление о первой учительнице было несколько смазано тем, что Аня знала её еще с дошкольного возраста. Гуляя по вечерним школьным коридорам, Аня могла видеть, как строгого вида женщина, наклонив кудрявую седую голову, проверяет тетради и, грустно вздыхая, записывает что-то в журнал.
Глаза у Екатерины Петровны были светло-голубые, почти выцветшие и при встрече смотрели на Аню безразлично и устало. Возможно, усталость от школьной жизни была спутником её преклонного возраста. Все надо делать вовремя и уходить с работы тоже. Однако мужа у Екатерины Петровны не было, дети давно обзавелись семьями и оставаться по утрам в пустой квартире было невмоготу. Как говорится, надо же куда-то ходить по утрам. Активные и любознательные от природы младшие школьники невольно успокаивались под её взглядом и становились дисциплинированней, что в принципе было неплохо. Поэтому на её возраст в школе никто не обращали внимания, и она продолжала и продолжала работать.
Аня слышала, что первая учительница – это какой-то особый человек, что она должна навсегда остаться в памяти, что её полагалось любить и поздравлять с Днем учителя всю оставшуюся жизнь. Дав себе слово, что так и будет, с твердым намерением стараться изо всех сил, Аня уселась за парту.
Тараща на первую учительницу глаза, чтобы выглядеть серьезной, Аня отсидела уроки с такой прямой спиной, что к концу последнего ощутила напряжение во всём теле. Екатерина Петровна усердие новоиспеченной первоклассницы не заметила и похвалила какую-то девочку, поднявшую упавшую у учителя ручку. Девочка чувствовала себя героиней дня. Аня чувствовала себя разбитой.
После уроков Аня, сопровождаемая Савкой, побрела домой. Савка, как молодой радостный спаниель, постоянно бегал вокруг Ани и непрестанно болтал. «А как же теперь с Колдовской школой?» – вдруг спросил он, заглядывая в её глаза.
Колдовская школа занимала особое место в её с Савкой отношениях. С самого детского сада они мечтали найти такое место, где можно исполнить любое желание, а может даже найти волшебную палочку. Особых желаний у них не было, и игра превратилась в бесконечный процесс: они искали её за домом и по пути в магазин, бегая в рябиновых кустах по сопке и собирая камушки на черном вулканическом песке у бухты, обсуждали планы поиска в детской, пока взрослые отмечали праздники, отчитывались друг другу о поисках, когда возвращались после летнего отдыха. Пожалуй, Савка верил в реальность существования Колдовской школы даже больше, чем Аня, а может, главное было придать смысл беззаботным детским прогулкам. Иногда процесс становится гораздо важнее результата. И они продолжали искать.
– Будем продолжать. Обязательно когда-нибудь найдём! – уверенно сказала Аня.
– А когда? Теперь же уроки надо будет учить!
– Ну, в выходной, или на каникулах, или в праздники…
И Савка, вроде, поверил. Друзьям надо верить, даже если они и говорят что-то сомнительное. Настоящие друзья и сами верят в то, что говорят. Иначе это не дружба.
Девочка пришла домой, вытащила из портфеля всё, что в нём было, задумчиво посмотрела на прописи. Надо было написать первые «палочки», но неуверенность всё же победила желание приступить к домашнему заданию. «Надо подождать. Кто-то придет, папа или мама. У них сегодня есть «окна», – подумала Аня и залезла на подоконник, чтобы понаблюдать за людьми и собаками.
Глава 8. Про желание, музыкальное образование и соответствие чужим ожиданиям
О развитии младших школьников написаны миллионы книг. Что делать для когнитивного и эмоционально-чувственного развития, как способствовать физическому и эмоциональному совершенствованию, что читать, чем поощрять, как воспитывать…
В советское время направлений было не так много: спортивная секция, кружок по рукоделию, «художка», «музыкалка». Особенный внутренний мир ребёнка, куда сегодня заглядывают с большой осторожностью, возможно был таким и много лет назад, но советским родителям быстро удавалось скорректировать его «особенность» своими волевыми решениями.
Аня любила рисовать. Она рисовала, оставшись одна, рисовала, когда нельзя было мешать родителям, когда были гости, когда болела, когда слушала пластинки, когда не выходила гулять из-за плохой погоды, рисовала, рисовала, рисовала. «Неужели это ты нарисовала? – с восхищением и некоторым страхом спросил однажды Коля дочь, когда та показала ему дедушку Ленина, срисованного с десятирублевой купюры. – Аля, посмотри, как она нарисовала!». Аллочка с неподдельным интересом рассматривала нарисованного вождя. Коля как-то странно захихикал и сказал, что это надо непременно показать коллегам. Рисунок был, действительно, неплох. И как бы повернулась жизнь Ани, если бы не решение Аллы… Спустя несколько дней, когда школьные коллеги отвесили кучу комплиментов начинающему художнику, Алла решила отдать дочь в музыкальную школу.
Аня успешно прошла экзамен-прослушивание, ей купили нотные тетради, приобрели тёмно-коричневое лакированное бывшее у кого-то в использовании пианино «Приморье», кряхтя от усердия, затащили его на второй этаж и умудрились втиснуть в комнату, где уже стоял шкаф, диван, кресло-кровать и письменный стол. Удалось достать жёсткий круглый стул, сиденье которого вертелось вокруг своей оси для регулировки высоты, и чёрный метроном со стальной стрелкой.
Роскошь музыкального образования! Высококультурные граждане советского общества, хорошо разбирающиеся в классической музыке, знающие нотную грамоту, чувствующие гармонию звуков и ориентирующиеся в музыкальной истории, – одна из воспитательных задач того времени. Целая система музыкального образования была подчинена этой задаче: семилетняя «музыкалка» – музучилище – консерватория, а ещё – спецшколы при консерваториях… В отличие от спортивных школ, музыкальные и художественные школы были платными. Савку отдали в спорт, Егор развивался самостоятельно, а Аня, как потомственный «музыкант» – Алла вела в школе уроки пения, – просто обязана была ходить в музыкалку.
Маленькая музыкальная школа располагалась на первом этаже двухэтажного полуразвалившегося здания. Рядом был магазин «Рыбкооп», торгующий копчёными богатствами Камчатки: кета, горбуша, кижуч, спинки минтая, консервы с ухой, рыбой в масле и томате. Ученики музыкальной школы вдыхали запах копчёностей, работники магазина наслаждались нестройными звуками начинающих гениев, исполняющих Баха, Моцарта, Шопена…
В маленьких узких кабинетах проводились уроки по сольфеджио, специальности, музыкальной литературе. Ане нравился хор. Обладая хорошим слухом, но слабыми голосовыми данными, девочка с удовольствием «пряталась» среди звучных голосов талантливых учеников. Еще музыкальная литература. Специальность – основное, ради чего и ходили в школу, – вызывала у неё какое-то холодное сковывающее чувство. Преподаватель Елена Викторовна садилась рядом и начинала раскачиваться в такт этюдам, сонатинам и прелюдиям. «Так, так, живее, кисть держи так, как будто держишь теннисный шарик… Глубже звук, локти, локти не разводи!» – покрикивала она. «Вот так надо», – играла она своими пальцами на Анином плече, показывая силу нажатия на клавиши.
Чувство прекрасного никак не приходило, плечо побаливало, времени на рисование не было и однажды Аня сорвалась. «Ненавижу эту музыкалку! Ненавижу эти ноты! Не буду туда ходить!» – кричала она, разбрасывая нотные листы и дубасила по клавишам. К слову сказать, вести себя так при Алле девочка бы не посмела. Дома никого не было, и она дала волю и слезам, и гневу, и накопившейся усталости. Пианино, безжалостно избиваемое маленькими кулачками, орало, издавая жуткие звуки и призывая на помощь соседей. В стенку постучали. Аня словно очнулась. Ключ в двери повернулся. С работы возвращались родители. Времени было слишком мало, чтобы скрыть следы настоящих чувств. С красным лицом и всклоченными волосами Аня стала собирать разбросанные листы.
– Это что это у нас тут какое? – поинтересовался весело Коля.
– Посмотрите-ка на неё! Что за беспорядок? – удивилась Алла.
– Я не буду ходить в музыкалку. Я её не люблю. Я рисовать хочу! – пробубнила Аня.
– Это еще почему? – удивляясь смелости дочери спросила Аллочка.
– Не хочу! – набычилась девочка.
– Как это не будешь? Выучишься – еще нам спасибо скажешь! – парировала она.
– Играть же так здорово! Ты просто пока не понимаешь! – подключился Коля.
Больше Аня ничего не говорила. Она медленно продолжила собирать разбросанное. Ни Алла, ни вставший на её сторону Коля не смогли добиться от неё ни слов, ни обещаний ходить в музыкальную школу.
Не понимая, что она применяет простой психологический прием – манипуляцию, Аллочка решила использовать самый весомый довод. «Завтра всем в школе про тебя расскажу! И учительнице, и Марии Васильевне, и Савке, и Егору!», – завершила она. Аня сжалась. Егор ей нравился и втайне она испытывала к нему что-то, напоминающее чувство к дедушке Ленину. Сердце её дрогнуло. Однако откуда-то появившееся упрямство не отпускало, и она ничего не сказала.
Весь следующий день в школе Аня чувствовала себя как голый в бане, когда туда неожиданно входит посторонний. Ей казалось, что вот-вот придет Алла и начнет рассказывать, какой позор Аня для семьи. Алла не приходила. «Наверное, она сейчас Егору говорит обо мне», – думала девочка. Прошли уроки и она, стараясь быть незаметной, побежала домой.
Придя домой, Аня взяла лист бумаги, карандаш и написала: «Я хочу ходить в музыкальную школу. Мне нравится играть. Мне кажется, что это маленькие гномики бегают по клавишам…». И много еще разной ерунды. По щекам Ани катились слёзы. Они капали на бумагу и пытались стереть эту маленькую детскую ложь.
Вечером вернулись с работы Алла и Коля. Прошел ужин, но никто не начинал разговор о недостойном поведении Ани, никто не спрашивал про её успехи в школе и не рассказывал, как отреагировали на это «событие» те, кому Алла грозилась рассказать накануне. Аня взяла листок, на котором было написано про «жгучее желание» продолжать ходить в музыкалку, и подала его маме. «Вот!» – только и смогла выдавить она из себя. Подошел Коля и они месте с Аллочкой пробежали глазами измятый расплывшийся текст.
– Ну и хорошо! – сказал Коля, – Ты нам еще спасибо скажешь!
– Иди спать! – жестко сказала Алла.
Аня поплелась в ванную, умылась, разделась и залезла с головой под одеяло. Облегчение от исчерпанного конфликта не наступало. Мысль о том, рассказала ли Алла про неё Егору, все еще тревожила девочку. Но противней всего было то, что она наврала. Было не понятно, что хуже: то, что она поступила нечестно, или то, что ей придется продолжить заниматься нелюбимым делом. Она в первый раз ощутила непринятие себя и то, как трудно соответствовать чужим ожиданиям. Как долго ей потом пришлось искать правильный ответ на вопрос «А надо ли им соответствовать?»
Глава 9. Про бабушек, самолеты, такси и счастье
У каждого ребенка должна быть бабушка. Просто должна быть и всё. Родители – воспитывают, бабушки – любят. Любят тебя за то, что ты есть, за то, что тебя можно кормить, за то, что ты просто свой и самый лучший. Они не верят, если о тебе говорят плохо, не ругают, если ты что-то разбил, не читают нотаций и не жалуются на тебя родителям. Нет, конечно бывает и по-другому, но любимые бабушки обязательно должны быть, иначе в детстве, даже в самом прекрасном, будет чего-то не хватать…
Аня начинала ждать поездку к бабушке сразу же после возвращения от неё. Тем, кто живет с бабушкой по соседству или в одном городе, вряд ли удастся испытать эти чувства. Семья Ани добиралась до бабушек почти неделю. До «материка», как называли камчадалы всё, что было за полуостровом, добраться было непросто. «…В этот край таежный только самолетом можно долететь!», – любил петь Коля строчку из известной тогда песни Николая Добронравова. И это, действительно, было так. Только во время летнего отпуска родителей можно было увидеть и родные лица, и погреться на жарком материковском солнышке.
Аня плохо переносила дорогу, но радость от встречи с любимыми бабушкой, бабулечкой, бабуленькой и дедом помогала ей стойко переносить перипетии долгого пути. Сначала раздолбанный вонюченький «ПАЗик» вез их к причалу. Затем кряхтящий небольшой катер, прыгая и переваливаясь с одного бока на другой, с бесконечным урчанием тащился через бухту. Потом опять «ПАЗик», пересадка, «ПАЗик», аэропорт.
В самолёте выдавали кислые леденцы «Полет» и зелёные, ужасно пахнущие бумажные пакеты. Первое предназначалось для того, чтобы не закладывало уши. Второе – для тех, у кого завтрак еще остался и, возможно, захотел бы выйти наружу. Четыре часа на ИЛ-18 до Хабаровска, вынужденный «транзитный» отдых, семь часов на ИЛ-62 до «Домодедово» в Москве.
Тридцать килограммов ручной клади на человека: забитые рыбой и икрой чемоданы и рюкзак. Коля, навьючив на себя пахнущую копчением ношу, сгибая тоненькие мускулистые ножки, семенил по аэропорту. Алла, крепко держа дамскую сумочку с наличными, безнала тогда и в помине не было, гордо плыла за ним. Аня, зевая из-за девятичасовой разницы во времени, волочилась рядом. Достав из сумочки блокнотик с номерами счастливчиков, живущих в Москве, Алла начинала обзвон. «Алло, здравствуйте, это Алла. Да, мы с твоей мамой вместе работаем. Она говорила обо мне? Мы уже в Москве, в аэропорту. Можно к вам? Да, с Аней и с Колей! Да, на недельку где-то», – тараторила она. Рады были далеко не все. У некоторых была официальная причина отказать: гостили родственники или знакомые, опередившие Аллу. Тем, кому повезло меньше, соглашались принять внезапно позвонившую Аллочку. Куда же, как говорится, её девать с ребенком? Она не любила звонить заранее: зачем тратить время, тащиться в переговорный пункт, да ещё и трубку вдруг не возьмут! Спонтанность была её характерной чертой.
Роскошь поездки на такси! «Наши люди в булочную на такси не ездят!», – веселился Коля, таща поклажу к остановке такси возле аэропорта. Двадцать копеек за посадку и двадцать за километр – не такая уж большая оплата для работящего камчадала. Все было нормировано, дозировано и подконтрольно государству. Далеко не каждый водитель мог войти в профессию. Большой безупречный водительский стаж, положительная характеристика, служба в армии, безусловно, являлись преимуществом. Да ещё, если ты новенький, поработай на старой уставшей развалюхе, выполни план, обслужи без нареканий пассажиров. И вот, после всего этого, ты заслужил рацию для дополнительных заказов и, если повезёт, блатное рабочее место. «Вокзальщики» и «аэродромщик» – элита таксистского бизнеса.
Выстояв очередь из таких же приезжих советских граждан, семья втиснулась в машину и … «Поехали!». Мягкий тёплый летний ветерок, стройные раскачивающиеся в такт ему берёзы. На камчатке берёзы кривые, крепкие, выносливые, как ноги местного аборигена. Аня смотрела на уже окрепшую зелень, вдыхала запах встречных машин и забывала про свой капризный вестибулярный аппарат. Когда ты счастлив, не обращаешь внимания на мелочи, которые казались такими значимыми раньше.
Москвичи, у которых останавливались Анины родители, не всегда были коренными. В основном это были дети тех, кто работал с Аллой и Колей на Камчатке или их родственники, приехавшие в своё время покорять столицу. Работали они много, уезжали рано, появлялись дома поздно. Ане хотелось, чтобы родители оставили её в квартире, но Алла считала необходимым брать её с собой.
Ежедневные прогулки по магазинам в поисках подарков родственникам и того, чего не было на Камчатке, изматывали те только Аню, но и Колю. И только Аллочка носилась как горная коза, не зная ни усталости, ни сочувствия к членам семьи. Отстояв длиннющую очередь, родители покупали билеты на поезд для дальнейшей поездки и продолжали утюжить Москву до указанной в билетах даты. Ане оставалось совсем немного потерпеть до встречи с любимой бабулей.
Сначала заезжали к Колиной маме. Жила баба Таня под Иваново, была тихой и молчаливой и совсем не обращала на Аню никакого внимания. «Коляша приехал!» – обычно по несколько раз повторяла она, придя из своего дома в дом дочери. Семья Ани обычно останавливалась у тети Кати, сестры Коли, дней на семь. Родственники были спокойными, добрыми и простыми. На столе появлялась «жарёная кОртошка», доставались дозревающие в валенках помидоры, резалась камчатская рыба, разливался резкий пахучий самогон. Ивановская речь, неспешная и негромкая, убаюкивала Аню. Сквозь сон она слышала необычный «окающий» говор и неспешные разговоры о чем-то добром и хорошем.
Несмотря на душевную и спокойную атмосферу у ивановских родственников, Аня продолжала торопить время. Впереди была встреча с самарской бабушкой, которая не только любила, но и считала её самым значимым человечком в своей жизни.
Любила ли её баба Таня? Наверное, да. Просто она была очень молчаливой и больше всего на свете ждала приезда сына. Она смотрела на него с нежностью и любовью, ей достаточно было видеть его и слушать, как он разговаривает с другими. За время пребывания в деревне они ни раз ходили в гости к бабе Тане, и она молча ставила на стол хрустящие пупырчатые огурчики, отварной картофель и деревенский пахучий хлеб. Пережившая войну, потеряв на фронте мужа и вырастив троих детей, она привыкла довольствоваться малым. Вероятно, трудности и сделали её молчаливой, а может, она считала неправильным выспрашивать о жизни сына. О своей ей говорить было нечего, все и так было как на ладони: небольшой огород, простой деревянный домик с красивыми резными наличниками, да старый тяжелый сундук, в который никто кроме неё не заглядывал.
Проходило время, семья Ани, вновь запаковав в чемоданы вещи и попрощавшись с ивановскими родственниками, отправлялась дальше, к Аллочкиной маме.
«Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня!» – задорно пела Аллочка, спускаясь с поезда на перрон, где стояли встречающие её сестра с мужем. Тетя Надя была младше Аллы на десять лет, имела пышные формы и улыбающиеся карие глаза. Её алые губы и ярко накрашенные щеки излучали искреннюю радость и казались украшением всего перрона. Рядом, держа традиционный букет из полевых цветов, которые так любила Алла, стоял улыбающийся, худой и очень высокий дядя Вова. Эта пара смотрелась немного комично, но общая радость объединяла их, делая единым сгустком доброй энергии.
Потом был праздничный стол, долгие разговоры и, конечно, песни. Аллочка и Надя пели на два голоса тихо, душевно, мелодично и Аня, лежа в кровати в соседней комнате, готова была слушать это пение вечно.
Покупка продуктов в деревню, электричка, бегущая вдоль деревенек и пролесков, маленький одноэтажный вокзал. На небольшой пыльной пощади с единственной автобусной остановкой сидели бабушки с жареными семечками, стеклянными стаканчиками и раздутыми цветными прозрачными сахарными петушками.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.