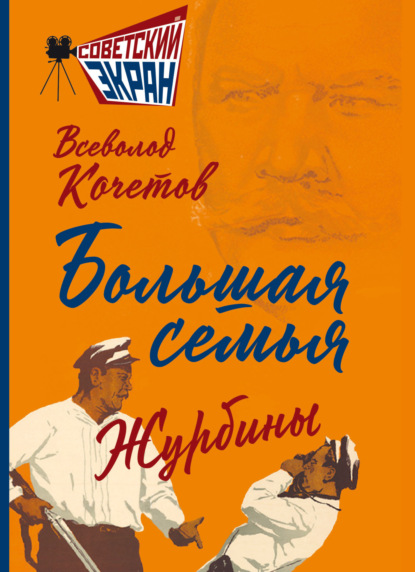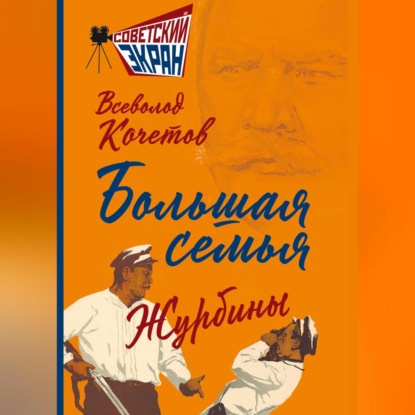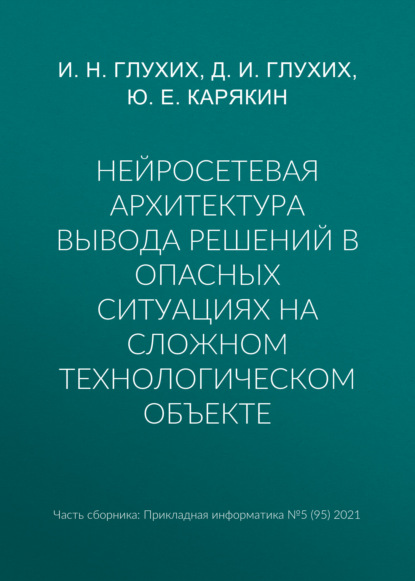Мачеха и другие простые истории

- -
- 100%
- +
Анфиса Васильевна к молодым наведывалась нечасто. Не могла она забыть жестоких Павловых слов, не могла простить Шурке её неожиданного самовольства. Теперь она ни во что не желала вмешиваться.
Попробуйте, милые детки, поживите своим умом, если материн ум вам во вред пошёл… Если мать не помощью, не опорой вашей, а камнем тяжёлым стала для вас…
Один только раз не выдержала Анфиса Васильевна.
– Ну, Шурка, надела ты на себя петлю… – сказала она, глядя на дочь с суровой жалостью. – С таким дитём сладить – не твой характер и не твой умок требуется. Разве же это ребёнок? Ты погляди: она людям в глаза не смотрит, говорить с людями не желает. А нарядами этими да баловством ты, милая моя, всё равно в добрые перед ней не войдёшь, только ещё себя перед ней унизишь. Потому что нету в ней никакой благодарности, не желает она осознать, что ты сиротство её пожалела, что содержишь её наравне с родными, законными детями. А раз не желает она тебя признавать, так ты ей теперь хоть масло на голову лей – всё равно и перед ней, и перед людями будешь ты мачеха… злодейка. Дура ты, дура! – Анфиса Васильевна горестно, громко вздохнула. – Нет, чтобы мать-то послушать, если своего умишка небогато… Испугалась, овечка глупая! Как же! Обидится муженёк, разлюбит, бросит ещё, пожалуй! Выхвалиться перед ним захотела: вот, мол, какая я у тебя сознательная! Он теперь и сам, поди, видит, какое золото в семью привёл, какой беды натворил, да только обратно ходу нет, не просто вам теперь это ярмо с шеи скинуть. Не сунулась бы ты тогда раньше времени – и никуда бы он не девался! Побегал бы, пофыркал и прибежал бы, как миленький, обратно. Да ещё у тебя же и прощения попросил бы за обиду.
Шура матери не возражала, не оправдывалась перед ней. Не пыталась объяснить, какая сила подняла её тогда с постели, что заставило из материнского дома, от сонных ребятишек бежать глухой ночью вслед за Павлом…
Конечно, силком Пашу никто не мог заставить признать эту самую Светку. И про то письмо люди могли бы не знать… Ну ладно. Пусть бы он отрёкся, отказался бы от неё. А дальше как? Знать, что живёт где-то девчонка одна-одинёшенька, круглая сирота… при живом отце… безродная…
И не забыть никогда тех горьких Пашиных слов: «Приходится мне со своей бедой в люди идти». Семь лет жила она за широкой Пашиной спиной, ни горя, ни заботы настоящей не знала. Он, глупый, думал, что рядом с ним верный человек живёт, надёжный. Надеялся, что до конца жизни у него с женой и радости, и горе – всё пополам будет. А вот случилась у него первая трудность – жена за материн подол схоронилась и талдычит оттуда, как попугай: «Не пущу! Не приму! И знать ничего не хочу!»
И не забыть никогда, как бежала она к нему ночью, как испугалась, увидев тёмные слепые окна: и огня не зажёг, и дверь за собой не закинул… Только сапоги по привычке сбросил у порога. Лежал в потёмках, не раздевшись, один на один со своим переживанием… Вот тогда-то и озарило Шурку, что теперь всё зависит только от неё. Что не он, сильный и умный, а только она может отвести нежданную беду, нависшую над их гнездом.
Скинув на плечи платок, она присела на край тахты, пихнула Павла кулачком в бок, чтобы подвинулся, сказала ворчливо:
– Ну чего теперь психовать-то? Подумаешь! Люди вон совсем чужих детей берут на воспитание, а эта нам всё ж таки не чужая…
Павел не удивился, не обрадовался. Он даже и глаз не открыл. Только засопел, словно на высокую гору вылез.
– А я ровно знала, что нам ехать, деньги утром с книжки сняла… – не успев договорить, Шура громко, протяжно зевнула.
Нет, к таким переживаниям надо, видно, привычку иметь. Привалившись враз отяжелевшей головой к плечу Павла, засыпая и борясь со сном, она озабоченно пробормотала: – Светает уже… ой, не проспать бы… к поезду.
– Не бойся… спи! – Широкой ладонью Павел прикрыл наплаканные Шуркины глаза, чтобы не потревожила её до времени ранняя летняя заря. – Спи знай! Я разбужу.
Была бы Светка, как другие дети… Поскучала бы, поплакала, да и начала бы помаленьку привыкать. Всё бы и обошлось, и наладилось бы. На первых порах Шура только об одном думала: чтоб как можно меньше бросались людям в глаза Светкины странности, чтобы пока не попривыкнет она хоть немножко, не пялились бы на неё люди, не замечали, насколько не похожа она на других ребят.
И никому, даже задушевной своей подруге Полинке Сотниковой, ни словечком не обмолвилась Шура о странных болезнях Светкиной матери, о ненормальном Светкином воспитании.
Очень уж боялась она за Павла. Не разберутся люди, станут говорить: «Дочь-то у Павла Егоровича недоразвитая… полудурок, в мать зародилась».
Жалеть начнут, сочувствовать. А другой ещё и посмеётся. Есть ведь и такие, что очень не любят Павла за прямой характер, за строгость в работе. Рады будут за его спиной зубы поскалить.
Подруга со школьной скамьи, а теперь соседка по дому Полина Сотникова, наглядевшись на Светку, шипела в сенцах, тараща на Шурку круглые любопытные глаза:
– Ой, Шурёна, я, ей-богу, и одного дня с ней не вытерпела бы! Ну чего её корёжит? Что она молчит? А может, они с матерью в секте состояли? Ты знаешь, какие они, эти сектанты, вредные?!
– Прямо-то! Ещё чего не придумай! – со смехом отмахивалась Шура. – Девчонка как девчонка! И чего она вам всем далась? Привыкнет. Тебя бы вот так-то: взять от родной матери, из своего угла, да завезти бы на край света, в чужой дом, к незнакомым людям – легко бы тебе было? А что молчит, так в кого ей шибко разговорчивой-то быть? Вся она – папенька родимый: и лицом, и характером, и разговором. Капля в каплю Павел Егорович: в час по словечку – и то в воскресный день.
Все сочувственные вздохи, вопросы и советы Шура выслушивала, безмятежно посмеиваясь.
Будто бы не видела она ничего странного в том, что семилетняя девчонка не умеет улыбаться, что невозможно поймать косого, ускользающего взгляда её всегда опущенных глаз.
Словно не тревожило Шуру и ничуть не тяготило Светкино молчание.
Разговаривать Светлана могла вполне нормально, не заикалась, не страдала косноязычием. Просто она могла в разговоре обходиться всего двумя словами: «да» и «нет». И ещё время от времени она говорила:
– Не надо, я сама…
Произносила она эти слова тихо и невыразительно, но с каким-то непреоборимым тупым упорством.
Когда с ней кто-нибудь заговаривал или просто ловила она на себе чужой пристальный взгляд, плечи у неё приподнимались вверх, а голова медленно и плавно начинала поворачиваться налево, пока подбородок не упрётся в плечо. Со стороны казалось, что кособочит её какая-то тайная сила, какой-то особый механизм, запрятанный в шейных позвонках. Причём косой взгляд её опущенных глаз в этот момент уходил куда-то совсем уж вкось, за спину, за левое плечо. Только благодаря неистощимому Шуркиному благодушию можно было не замечать этого нелепого кособочия и хоть в какой-то мере противостоять глухому упорству противных слов: «Не надо… я сама…»
– Давай я тебе коски заплету… – говорит утром Шура, притягивая к себе Светку за плечо.
– Не надо, я сама. – Светка вывёртывается из тёплых Шуриных рук и, скособочившись, отходит в угол.
– Ну что ж, сама так сама… – покладисто соглашается Шура. – Пока дома сидишь, можно и самой. А вот как в школу пойдёшь, тогда уж смотри… – И начинает, посмеиваясь, рассказывать, как Екатерина Алексеевна один раз отправила её домой, когда она, ещё во втором классе, явилась в школу с плохо прибранной головкой.
– И причёсываться надо перед зеркалом, а то гляди, какую дорогу сзади оставила… – Шура подбирает длинную прядку волос и вплетает её в Светкину косичку, словно не замечая, что Светкина голова совсем ушла в плечи, что вся она сжалась, напряглась, как будто вот сейчас должно случиться что-то нехорошее.
– А вообще-то ты всё же молодец! Смотри, как гладенько заплелась, и приборчик пряменький… – она снимает с комода зеркало и ставит его на Светкин столик.
– Гляди-ко! Я этак-то и в десять лет ещё не умела.
А Светка действительно многое умела делать. Даже и не поверишь, что девчонке ещё восьми лет не исполнилось.
Шурка часто хвалилась перед бабами:
– У нас Светлана – до всего способная! Читает, как большая, первый класс на круглых пятёрках закончила. И в любой работе такая проворная, такая растёт помощница. И всё сама. Ни просить, ни заставлять не нужно. Сама дело видит. Уж эта не будет тунеядкой, как у некоторых доченьки-белоручки.
Довольно быстро Шура нашла хитроумный способ «разговаривать» со Светкой.
– Свет! Гляди, какие пуговочки, по-твоему, лучше подойдут? – спрашивает она, раскинув перед Светкой нарядное пёстрое платьице. – Красненькие или зелёные? Красненькие вроде больше личат, верно? Ну что же, ладно. Давай тогда красненькие и пришьём.
– Свет! Ты когда за хлебом ходила, видала, какие в ларёк арбузы привезли? Как ты думаешь, спелые? Ну, коли спелые, давай, пока Ленка спит, сбегаем. Вдвоём-то мы шутя сразу пять штук принесём: ты в сумке два маленьких, а я в мешке три больших. Папка придёт – вот удивится-то! Как это, скажет, вам пособило столько арбузов натаскать?
Они отправляются за арбузами. По дороге Шура рассказывает, как однажды она пожадничала и купила два большущих арбуза, а ни сумки, ни мешка с собой не было. Вот и пришлось ей один арбуз в руках нести, а другой ногами катить перед собой. Так вот через всю деревню на потеху ребятишкам и пинала она арбуз, как футбол, до самого дома…
Она рассказывает и звонко хохочет. И со стороны действительно может показаться, что вот идут по улице двое и о чём-то оживлённо и весело толкуют.
Но всё это могло только показаться со стороны, если не присматриваться. Шли недели, а Светка продолжала молчать. И была такой же чужой и немилой, как и в первые дни. Соседские девчонки норовили было с ней познакомиться, но скоро отступились. Кому она нужна, такая… кособокая?
Была она послушна. Молча, чем могла, помогала Шуре по хозяйству. Ходила за молоком, за хлебом в ларёк.
Всё свободное время проводила она за столиком в своём углу. Шура приметила, что девочка любит рисовать, шепнула Павлу, и он навёз из города карандашей цветных, красок разных, альбомчиков для рисования.
Как-то в большую уборку Шура обнаружила под Светкиным матрасом альбом, до конца заполненный рисунками. Интересно так срисовано, где из книжек, а где из головы, видно, придумано.
Но никогда не видела Шура, чтобы взяла Светка нож карандаши починить или налила бы воды в стакан кисточки мыть.
Всё тайно, всё крадучись. И никогда не застанешь её врасплох. Войдёшь в залу, заглянешь за шифоньер – перед ней на столе «Мойдодыр» развёрнут. Большущая такая книга с картинками. «Мойдодыром» она и закрывала своё рисование, прятала от чужих глаз. Значит, всегда она настороже, всегда в ожидании. А почему? Боится ли она кого, или стыдится? Шура не спрашивала. С первых дней ей как-то само собой стало ясно, что расспрашивать Светлану ни о чём не нужно. Нельзя.
Очень хотелось Шуре приучить Светку играть в куклы. В кукольном уголке на кукольном стуле одиноко сидела нарядная белокурая красавица Катя. Подарок отца. На кукольной кроватке, прикрытой лёгкой простынкой, сиротливо лежал смугленький голыш. Но ни разу не видела Шура, чтобы взяла Светка куклу на руки или понянчила малыша.
Только как-то однажды ранним утром, заглянув за шифоньер, Шура обнаружила, что голыш поверх простыни прикрыт тёплой Светкиной косынкой. Значит, всё же пожалела Светлана маленького, ночи-то были уже по-осеннему холодные. Больнее всего обижало, что не хотела Светка носить нарядные, новые платья, которые с таким старанием шила для неё Шура. Сходит в магазин и, спрятавшись за шифоньер, сбросит новое, Шурино, и торопливо натягивает старенькое, «своё». А новое аккуратно повесит в шифоньер. И лицо у неё в этот момент такое, что Шура понимает: ни сердиться, ни уговаривать, ни убеждать нельзя. А «своего» у Светки только и было, что два серых застиранных платьишка и старая, потёртая сумочка – «мамин редикуль».
Павел ещё там, на месте, хотел взять из «редикуля» и переложить в свой бумажник Светкину метрику и документы её матери, но Светка прижала «редикуль» к животу и, скособочившись, начала медленно пятиться к двери. Было ясно, что «редикуль» у неё можно было взять только силой.
Метрику она позднее отдала сама, когда Шура объяснила, что без метрики в школу могут не принять. Должны же учителя точно знать, сколько ей лет. А метрика-то была нужна для оформления Светки на фамилию отца. С «редикулем» Светка почти не расставалась. Ночью клала под подушку, а позднее, даже идя в магазин, стала брать его с собой. Шуру томило любопытство: что в нём таится такое драгоценное, что нужно так бдительно охранять, прятать от чужих глаз? Она всё же не утерпела, выбрала удобный момент, когда Светка ушла на речку, и заглянула в «редикуль».
Какие-то старые конверты, картинки, квитанции. Паспорт. А в нём, в аккуратном конвертике из розовой промокашки, старая фотография. Длинное, плоское лицо, без выражения, без улыбки в тусклых глазах… Господи! И как только Паша мог?! И какое же это счастье, что Светка всем обличьем уродилась в отца! А иначе… не стерпеть бы, не вынести.
Шура тихонько всхлипнула и торопливо сунула «редикуль» обратно под постель.
– Дурёха, дурёха, ну кому нужен твой «редикуль»? Чего ты трясёшься над ним?
Шура тогда ещё не знала, что за «редикулем» уже давно охотится Юрка, что совсем не так-то просто охранять от него Светлане свои сокровища. Многого тогда ещё Шура не знала. Вернее, просто не придавала значения, хотя бы потому, что Юрка окончательно отбился от дома и скоро, видимо, совсем переселится к бабушке. За последнее время он очень огрубел, стал какой-то дёрганый, противный. А что хуже всего, он, оказывается, люто возненавидел Светку.
Когда Шура хватилась, было уже поздно: ни лаской, ни строгостью не могла она убедить Юрку если не подружиться, то хотя бы просто оставить Светку в покое. Однажды она услышала Юркин выкрик: «Поганка черномазая! Приблуда! Немтырь толстогубый!» Как следует отхлестала его кухонным полотенцем и загнала в угол: правда, он тут же вывернулся и с рёвом убежал к бабке.
Теперь он эти слова и ещё многие другие не выкрикивал вслух, а шипел, кривляясь на пороге спальни или бегая назло взад-вперёд мимо шифоньера. Он изводил Светку методически, с ревнивой и хитрой выдумкой баловня семьи, любимчика, отстранённого с привычного места по вине этой черномазой приблуды… Действовал он смело, в случае поражения он всегда мог отступить на надёжные и хорошо укреплённые позиции – за бабкину спину.
Как-то прибежал он с улицы, весь в глине, потный, возбуждённый. Прибежал, чтобы поесть на ходу и скорее бежать обратно.
На берегу Каменки, за новыми сараями, строили они под руководством третьеклассника Игоря Истомина крепость трёхэтажную, с миномётами в окошках, а окошки, Игорь сказал, называются ам-бра-зуры.
Шура с интересом слушала сообщение о строительстве. Надо было поругать неслуха: опять, выходит, ни дома, ни у бабушки не обедал, – но очень уж не хотелось заводить грех.
– Ладно. Иди мой лапы да садись за стол, – сказала она миролюбиво, раскатывая на столе скалкой большую круглую лепёшку из теста.
Юрка убежал в сени и закричал оттуда, гремя умывальником:
– Мам, воды налей!
– У меня руки в тесте… – откликнулась Шура. – Попроси Свету, она нальёт…
– Да-а-а… – гнусаво завёл Юрка. – Ка-а-ак же! Нужна она мне… буду я её просить…
– Ну не хочешь, как хочешь. Сиди жди, пока я лапшу не сделаю.
– Да-а-а! – взвыл уже во весь голос Юрка. – Мне скорее надо!
Из зала вышла Светка, направилась бочком в сени.
– Света, поди-ка ко мне… – негромко окликнула её Шура. – Зачем ты ему потакаешь? Ему, свинёнку такому, четыре вежливых слова сестре сказать неохота, а ты потакаешь… Конечно, ты у нас большая, старшая, ты должна младшим помогать, учить их, но капризам ихним никогда не потакай! Орёт? Ну и пущай орёт! Сорвёт дурь, глядишь, хоть на копеечку поумнее станет.
Юрка, примолкший, чтобы послушать, о чём в кухне идёт разговор, при последних словах завопил от возмущения совсем уже по-дикому. Потом в сенях с грохотом покатилось поганое ведро, и тут же о порог хрястнулся кусок мыла.
Шура не спеша отёрла руки полотенцем и пошла в сени. Волоком тащила она Юрку через кухню. Когда он особенно крепко упирался, она наклонялась и маленькой жёсткой ладонью добавляла ещё к тому, что уже было всыпано для начала в сенях.
Она уволокла его в спальню: там, между комодом и Ленкиной качалкой, Юрка обычно всегда отбывал наказание за свои грехи.
– Посидишь до ужина. Потом в сенях приберёшь, потом прощения попросишь.
Вот какой был на этот раз приговор.
Шура плотно прикрыла за собой дверь в спальню. Подле шифоньера, съёжившись, втянув голову в плечи, стояла Светка.
Смуглое, большеротое, скуластое её лицо было искривлено жалкой, плаксивой гримасой.
Подумать только. Неужели она жалеет Юрку?!
* * *Конечно, Шура прекрасно понимала, что не Юрка придумал все эти поганые слова: приблуда, немтырь…
Но как можно было его удержать дома, не пускать к бабушке? Мать и так даже похудела от всех этих переживаний. Леночку почти не видит. Если ещё и Юрку у неё отобрать, что же это будет?
Ругаться с ней, чтоб не настраивала она Юрку, просить, чтобы не говорила при нём чего не следует, – всё это ни к чему. Тем более теперь, когда начинают сбываться её пророчества: «Не твой характер… не твой умок требуется, чтобы с этим дитём сладить…» Ладно, пусть она дура. Пусть Светлана не желает её признавать. Ну, а уж Юрку-то своего она хорошо знает. Никакой он не злыдень. Забили ребёнку голову. Один одно внушает, другой – другое. Вот разъяснить ему всё… как было, не такой уж он маленький – поймёт, тогда и бабкиного шипения слушать не станет.
Вечером, уложив Леночку спать, Шура притянула Юрку к себе, зажала между колен, чтобы не вертелся.
Юрка только что помыл перед сном ноги, стоял у неё в коленях в одних трусиках, смугленький, крепкий, как маленький гриб-боровичок, с любопытством выжидательно смотрел в лицо матери.
Шура вынула из косы гребень и стала полегоньку разбирать, расчёсывать густые Юркины волосы, выцветшие за лето на солнце и пахнущие солнцем, и ветром, и ещё какой-то полевой травкой.
– Ты вот всё зловредничаешь, обижаешь Светку, а того не понимаешь, что другая девчонка на её месте давно бы уже папе на тебя пожаловалась. А он бы тебя выдрал – и правильно. Она девчонка, а ты парень, ты должен за неё всегда заступаться, потому что она тебе сестра. Можешь ты это понять или нет? Родная, кровная сестра… А папа наш, как тебе и Алёнке, так и ей такой же папа…
– А ты? – прищурившись, с любопытством перебил Юрка.
– Ну, а я… мама…
– А бабаня говорит, что ты мачеха.
– А ты никого не слушай, – сердито оборвала его Шура. – И слова этого никогда не говори, оно нехорошее…
– Матерное?
– Ну хотя и не матерное, а всё равно нехорошее. Вот слушай, я тебе сейчас всё разъясню… Был наш папа совсем ещё молодой, – Шура заговорила медленно, негромко, словно новую интересную сказку придумывала. – Такой был папа молодой, ну вот как Саша Сотников, только Саша ещё учится, а папа уже был трактористом. А тебя и Алёнки ещё на свете не было.
– А мы где были? – удивился Юрка.
– Не вертись ты и слушай, не было вас, потому что вы ещё тогда не родились. А меня папа тоже не знал…
– Тоже ещё не родилась?
– О господи! – Шура на минуту задумалась, потом тряхнула головой и решительно повела дальше рассказ о том, «как это всё было». Всё – от начала до конца.
– А когда мы с папой приехали, Светину маму уже похоронили, а Света всё плакала… – голос у Шуры сорвался. От умиления и жалости она и сама чуть не расплакалась. – Папа говорит ей: «Не плачь, Света, я твой родной папа, а ещё у тебя теперь будет сестра Леночка и брат Юрик. Он тебя никому в обиду не даст».
Юрка слушал, хмуро насупившись, но вот и у него губы начали набухать… он поднял на мать налитые слезами глаза.
– Мам… – прогудел он, всхлипнув, – не надо её нам… скажи папе… пусть обратно увезёт…
* * *С малых лет и до самого последнего времени среди своих семейных Шура славилась умением поспать. Мать называла её соней-засоней, а Павел смеялся, что Шурка – как котёнок на тёплой лежанке: свернётся клубочком, малость помурлычет и готова – засопела.
А теперь вот она впервые на себе узнала, что это такое – бессонница. И недаром люди говорят, что бессонница хуже болезни.
Лежать, таращить глаза в темноту и думать всё об одном… Особенно плохо спалось, когда не посапывал рядом Павел, а он теперь нередко и на ночь оставался в поле. Уборка шла круглосуточно.
Лето задалось тяжёлое: сначала жгла засуха, а подошла уборка – начались дожди.
Ребят Павел почти и не видел: утром уезжал на заре, приезжал поздним вечером, когда они уже спали. К этому часу сил у него оставалось ровно столько, чтобы успеть помыться и уже через силу прожевать то, что торопливо ставит перед ним на стол Шура.
Поначалу, как привезли Светку, Павел с тревогой присматривался и к дочери, и к жене. Но вскоре успокоился. Полностью доверился Шуре, окончательно убедившись, что неспособна его Шурка обидеть ребёнка, тем более сироту.
Шурка не дулась, не попрекала его Светкой, не жаловалась на неё. Чего ещё можно было желать? Тем более что не оставалось у него ни минуты свободной на семейные дела. Всё же он интересовался, каждый раз заглядывал мимоходом за шифоньер, спрашивал тихо:
– Ну, как она?
– Ничего… – неизменно отвечала Шура. – Привыкает помаленьку. Ложись давай.
Да, она не жаловалась. В том-то и была беда, что ей некому и не на кого было пожаловаться. Правильно мать-то говорила. Кого теперь винить, если сама она на себя эту петлю надела.
Была бы Светка, как другие дети… А может, правильно Полинка говорит, что всё-таки есть в ней какая-то ненормальность? Может, сказать Паше, свозить её в город к врачам по этим самым болезням. Может, забрали бы её куда-нибудь лечить. Есть же, наверное, где-нибудь больницы или дома специальные для таких.
Ой, нет!! Господи, что это, какая ей дикость в голову лезет?! К учению ребёнок способный, сноровка во всяком деле, как у большой. И не сгрубит никогда, не своевольничает. Просто требуется к ней особый подход, а какой он, этот самый подход?!
Может, с ней строгость нужна? Может, надо встать перед ней да и спросить напрямую: «Чего тебе не хватает? Чего ты хочешь?»
Шура садится в постели и, охватив колени руками, мерно покачиваясь, начинает ещё раз перебирать в памяти, как ездили они с Пашей за Светкой, как увидела она её в первый раз.
* * *Мельниковы, те, с которыми Наташа уехала на Север, встречали их на пристани. Николай Михеевич, обняв Павла, сказал растроганно:
– Знал. И ни минуты не сомневался в тебе, Павел Егорович! – Потом он пристально посмотрел на Шуру. – Значит, и жинка с тобой пожелала… Ну, вот и добро! – И как-то очень серьёзно и уважительно пожал ей руку.
Потом его жена Марина Андреевна подвела к ним Светку. Светка прижимала к животу старую, потрёпанную сумочку. Не поднимая опущенных глаз, она молча подала руку, сначала Шуре, потом Павлу.
Павлу-то догадаться бы, обнять её, на руки взять, а он растерялся, топчется на месте, положил руку ей на плечо и молчит.
Марина Андреевна заплакала, а Николай Михеевич отвернулся, покашлял и говорит:
– Ну, ладно, пошли!
Квартира у Натальи была при почтовом отделении – небольшая комнатка, не то чтобы грязная, а какая-то запущенная, серая. И всё в ней было серое, даже шторка на окне не белая, а из какого-то серенького ситчика. И наволочки на плоских подушках, и старенькое байковое одеяло на железной кровати.
У Шуры даже под ложечкой задавило, когда представила она себе, как привезёт всё это серое в свою новую светлую квартиру.
Она незаметно вызвала Павла на крылечко и, заглядывая снизу в его сумрачное лицо, умоляюще зашептала:
– Давай, Паша, не будем ничего отсюда брать. Я для неё всё свеженькое пошью, новенькое, ладно? И подушечка у меня для неё есть, чисто пуховая, а одеяло ватное, сатиновое я ей сама выстежу.
Павел смотрел ей в лицо пристально, хмуро.
– Ну что ж, – вздохнул он невесело, – правильно, пожалуй… А ей объясни, что обратно самолётом полетим, а в самолёт, мол, с вещами не берут.
Так вот и получилось, что на новое жительство увезла Светлана только несколько платьишек, связку книг и «редикуль».
Больше всего удивило Шуру, что у Светки не оказалось никаких игрушек, ни единой, хотя бы дешёвенькой, хотя бы самодельной куклёшки.
И ещё молчаливость. Конечно, каждому понятно, девочка всё же большая, только что схоронила мать… Но всё же ни разу не поднять глаз, не сказать ни словечка, кроме «да» и «нет»…
Марина Андреевна на все Шурины расспросы отвечала уклончиво, неохотно.
Едва-едва удалось Шуре её разговорить. Со вздохами, паузами, где и со слезами рассказывала Марина Андреевна историю невесёлого Светкиного детства.