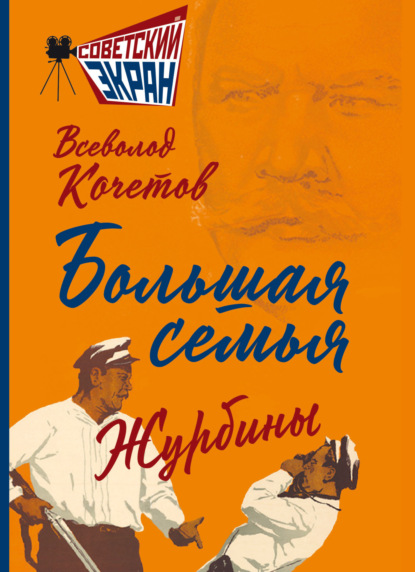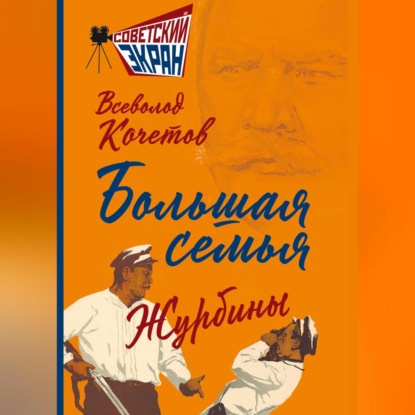Мачеха и другие простые истории

- -
- 100%
- +
– Болела Наталья много, сердце у неё было плохое, ну и головой очень она мучилась. Болезнь какая-то нервная у неё была, врачи признавали – неизлечимая. А если по-нашему, по-простому сказать, была в ней порча: накатывала на неё тоска вроде припадков.
А Светку она любила, это даже слов таких нету, чтобы вам рассказать, как она её любила. А растила строго и очень уж была неласкова. Жили они бедно, на одну зарплату; ни огорода она не имела, ни курёнка, ни поросёнка… От людей отгораживалась, только нас с Николаем и признавала за знакомых. Свету от себя ни на шаг не отпускала и не любила, чтобы к ней дети ходили, даже моих и то не очень привечала. Читать Светку она на пятом году обучила, книги ей покупала безотказно, а игрушек не признавала никаких. А к работе приучала прямо без всякой жалости.
Я как-то не стерпела и стала ей выговаривать: «Что же ты, – говорю, – с ребёнком такая суровая? Ни ласки она от тебя не видит, ни шутки не слышит. И радости никакой не знает. Работа да книжки. Подружки – и той у неё нету…» А она говорит: «Я долго не протяну, ей в сиротстве жить. Пусть ко всему привыкает, а подружек ей никаких не надо, пока я с ней. Нам с ней никого не надо».
Николай Михеевич, тот совсем начистоту, ничего не скрывая, высказался:
– Трудно вам с ней, ребята, придётся. Девчонка она умненькая и не злая, только очень уж запугала её Наталья против людей. Как накатит на неё эта болезнь-то, так и начинает она Светланке внушать: «Вот помру я, узнаешь тогда, как без матери жить. Вот тогда вспомнишь, как останешься одна посреди чужих людей».
Иной раз, поверите, даже слушать жутко. «Лучше бы, – говорит, – я тебя с собой рядом в могилу уложила. Никому ты, кроме меня, не нужна, всем ты чужая, лишняя, обуза тяжёлая. Ребёнка только родная мать может любить. Чужого ребёнка люди из милости, из жалости терпят. И всё это – притворство».
Для неё, понимаешь, все люди чужие были. Больной человек, что с неё возьмёшь? А Светлану, я так понимаю, придётся вам исподволь, тихонько к людям приучать. И к себе тоже, чтобы забыла она материны внушения, перестала им верить. Ну, конечно, терпения вам много потребуется… Особенно вам, Александра Николаевна, как матери. Потому что обходиться с ней надо только лаской.
Лаской… Если бы она ласку-то принимала. Что она ни отцом, ни матерью их не называет, это ничего. Бывает ведь так: осиротеет ребёнок, а его старшая, взрослая сестра на воспитание примет.
Вот и Светка, пусть бы росла наместо младшей сестрёнки. Разве плохо, когда в семье большая девочка есть? Алёнку когда ещё дождёшься, а с этой и сейчас уже можно было бы и поговорить, и посоветоваться, и посмеяться.
Вполне возможно, что и полюбила бы её Шура в конце концов. Всё-таки Пашина кровь. А может быть, она такая, потому что чувствует Пашино к ней отношение? Паша-то ведь к ней совершенно бесчувственный. Не может он никак осознать, что она ему кровная дочь. Умом понимает, а сердцем привязаться не может. А ребята, они ведь чуткие на этот счёт. Неужели она понимает, что взял он её только из-за совести… поневоле? Выходит, правильно ей мать-то внушала, чтобы не верила она никому?!
Неправда! Была бы она, как все дети. И Паша бы её полюбил. И не стала бы она для нас тяжёлой обузой. Из-за проклятого её характера вся наша семья может прахом пойти. Сколько же такое можно выносить, скрывать от людей, прикидываться. Закусив губу, чтобы не дать воли слезам, Шура плотно закрывает глаза. Лучше бы капризничала, не слушалась, орала бы. Ну, положим, если она заорёт, все соседи разом сбегутся. Полинка говорит, что и так в народе уже болтают: отчего это ребёнок такой забитый? Отец по неделе дома не бывает, а мачехе какая вера? Мачеха… Из школы два раза уже приходили… И председатель женского совета Ирина Антоновна, как встретит, всё только про неё выспрашивает. Ну, конечно, не у матери родной ребёнок живёт, у мачехи.
Вот скажут люди: «Несчастный ребёнок, и отец тоже несчастный. Принял сиротку, понадеялся на жену, а она для ребёнка обернулась не матерью, а мачехой. Разве можно такому поверить, люди скажут, чтобы к ребёнку подхода не найти?» Обычно, слушая бабьи пересуды, Шура только посмеивалась. На сплетни ей наплевать. А вот суда людского она боится. И не из-за себя, а из-за Павла.
А вдруг Пашу вызовут? С такими вот семейными делами в партком вызывают к Алексею Ивановичу! Вот позорище-то, вот обида для Паши будет! Он из-за этой своей дурацкой работы вроде слепой, не видит, что у него под носом в семье делается, что из-за милой его доченьки про нас люди говорят. Неужели же он не видит, каково мне с ней приходится, как трудно сдерживать-то себя?
Иной раз в глазах даже потемнеет, затрясёт всю, а ты всё шутишь, улыбаешься, всё подход этот самый к ней ищешь. Ну что ей нужно? Так вот схватила бы её за плечи, трясла бы, трясла: «Ну скажи мне, уродушка ты несчастная, чего тебе не хватает? Что ты от нас хочешь?!»
Обливаясь слезами, Шура стиснула в зубах угол простыни и уткнулась лицом в колени. Не хватало ещё только ребят своим рёвом перебудить.
* * *В школу Шура снарядила Светку по всем правилам. Форма шерстяная, коричневая, с кружевным воротничком, фартучки с крылышками. Пальто осеннее новенькое, и шапочка к нему под цвет. Портфельчик коричневый, со всеми положенными принадлежностями. Все последние дни Шура очень переживала: как Светлана поведёт себя в школе? Тем более что накануне пришлось объяснить ей, что фамилия у неё теперь папина и ей нужно откликаться, когда учительница Людмила Яковлевна скажет: «Олеванцева Света, отвечай урок!»
Светка не возразила, не заплакала. Но до чего же худенькая, до чего сиротливо поникшая сидела она вечером в своём углу. И Шуре было очень не по себе. Словно это она осиротила, обездолила человека, а теперь вот ещё и последнее, фамилию мамину, отобрала… Это просто даже смешно, но под первое сентября Шура уснула только перед самым рассветом. Против ожидания Светлана в школе держалась совсем неплохо. И смотрела она не на свои ботинки, а на комсомольский значок, красиво алеющий на белой блузке Людмилы Яковлевны.
А когда Людмила Яковлевна сказала: «Олеванцева Света, подойди ко мне!» – она отошла от Шуры и спокойно встала в паре с Томкой Ушаковой.
У Шуры немножко отлегло от сердца. Такая серьёзная, смугленькая, с белыми капроновыми лентами в косах, стояла Светка на линейке. А когда их строем повели в класс, она оглянулась и впервые, хотя и через плечо, взглянула Шуре в лицо.
С первых же дней Светлана начала таскать из школы одни пятёрки. Уже полностью овладев умением разговаривать со Светкой, Шура без труда узнавала о её успехах.
– Пять? – спрашивала она весело, встречая Светку из школы.
– Да, – тихо отвечала Светка, чуточку скособочась.
– По чтению?
– Не…
– По арифметике?
– Да…
– Устно?
– Не-е…
– Письменно?
Светка кивала и, молча раскрыв тетрадку, показывала толстую красную пятёрку.
* * *Несмотря на частые дожди, с уборкой справились неплохо. И хлебосдачу закончили первыми в районе. Урожай на круг получился не таким плохим, как ожидали. Теперь даже самые отпетые маловеры на опыте убедились, что при хорошей агротехнике и засуха не такой уж страшный враг.
Под конец страды установились ясные, погожие дни, и держались они, пока народ полностью не управился в поле со всеми осенними работами. Даже капусту и ту успели снять по сухой погоде.
Настроение у механизаторов было приподнятое. Словно после трудного многомесячного сражения возвращались они на отдых, на зимние квартиры.
Павел тоже вроде с фронта домой пришёл. Приятно расслабленный после бани и сытного ужина – завалился на тахту и, дремотно щурясь на мерцающий в полумраке экран телевизора, блаженно пригрозил:
– Так вот и буду лежать, пока не отосплюсь. Встану, поем и опять на боковую…
Но благодушного настроения хватило ненадолго.
Ещё с летних дней, когда он привёз Светку в свой дом, Павел почувствовал, что товарищи присматриваются к нему с любопытством и уважением. Словно примеривают его поступок к себе: а смог бы и я так-то вот открыто признать свой грех – назвать себя отцом и принять в свою семью совершенно чужого мне до сих пор ребёнка?
Нередко даже малознакомые люди доброжелательно спрашивали его о новой дочке, и на все вопросы Павел неизменно отвечал Шуриными словами: «Ничего. Привыкает помаленьку».
Отвечал уверенно, с достоинством, он не сомневался, что Светка действительно помаленьку привыкает.
И вот теперь оказалось достаточным всего несколько дней побыть дома, чтобы понять: Светлана в его семье как была, так и осталась чужой. Шли дни, а она ни разу не подняла на него глаз, ни разу никак не назвала его. Так и жил он рядом с дочерью – ни папа, ни дядя, ни Павел Егорович…
И сам Павел чувствовал себя подле неё скованно и неловко. Он не знал, о чём с ней говорить. Не мог же он разговаривать с ней по-Шуркиному: лопотать, смеяться, не реагируя на её глухое молчание, спрашивать и тут же на свои вопросы сам отвечать. На первых порах он ещё пытался заставить её разговориться.
– Ну, как у тебя в школе дела? – спрашивал он, стараясь насколько возможно смягчить свой глуховатый, неласковый голос.
Светлана низко опускала голову и шептала себе под мышку:
– Ничего…
– А как это понимать – ничего? – Павел через силу улыбался, чтобы подавить закипающее раздражение. – Хорошо или так себе? Серединка на половинку?
– Хорошо… – ещё тише выдавливала Светлана.
На этом беседу, собственно говоря, можно было бы считать исчерпанной, но Павел не сдавался:
– Слушай, Света, почему ты себя так ведёшь? Ты же большая, должна бы, кажется, понимать, что если тебя спрашивают…
Он говорил, и ему самому было тошно и тоскливо слушать свой нудный, отечески-назидательный голос.
А Светка молчала и всё круче загибалась куда-то влево. В конце концов перед глазами Павла оказывалось её правое высоко вздёрнутое плечо, ухо и часть щеки.
Иногда он с трудом сдерживал желание взять её за это упрямое плечо, повернуть к себе лицом и сказать жёстко:
– А ну, довольно кривляться, стань прямо, подними голову!
Но всегда в эту минуту рядом оказывалась Шурка с каким-нибудь неотложным делом или кто-то там срочно вызывал его на улицу… Или ещё что-нибудь.
Особенно раздражала его Светлана за столом.
Сидела, упёршись подбородком в грудь, приткнув к губам ломоть хлеба, не то сосала тихонько край куска, не то по крошечкам незаметно откусывала от него.
Зачерпнув ложку щей, медленно тянула её к губам и, беззвучно схлебнув, так же беззвучно опускала ложку на стол.
– Светлана, почему ты суп не доедаешь? – спрашивает Павел, с трудом сдерживая раздражение. – Если не хочешь, так и скажи…
Светка ещё ниже опускает голову, но тут вклинивается Шура:
– Ну, не хочешь – и не надо. – Она ловко вытаскивает из-под носа Светки недоеденный суп и, раскладывая по тарелкам второе, с ходу начинает рассказывать очень смешную историю, как вчера у Варенцовых поросёнок в старую погребушку завалился.
Первым из-за стола, отдуваясь, начинает выбираться Юрка.
– А спасибо где, сынок? – перебив Шуркин рассказ, останавливает его Павел.
– Да-а-а… – обиженно гудит Юрка. – А почему Светка никогда спасибо не говорит?
– А ты за Свету не беспокойся, ты за себя беспокойся, – ласково советует Шура. – Света привыкнет и будет говорить всё, что нужно. Ладно, сынок, на здоровье, беги играй!
И она со смехом продолжает рассказывать, как толстая Варенцова сноха полезла за поросёнком в погребушку, а потом и самоё оттуда на верёвках мужики вытаскивали. Не вникая в смешной рассказ, Павел время от времени окидывал Шурку хмурым недоверчивым взглядом.
Откуда у неё это спокойствие, это терпение? Неужели её и вправду нисколько не трогает идиотское Светкино кособочие, глухая её, упрямая немота? Всё ей нипочём. Крутится, похохатывает. Правильно, видно, мать-то определила: лёгонький умок.
Наступил день, когда, закончив работу, Павел задержался в мастерской просто так, без всякой надобности. Домой идти не хотелось. Перестало его тянуть домой. Уже несколько дней ни Шура, ни Светка не садились за стол, когда он приходил домой обедать.
– А мы уже покушали, – спокойно сообщала Шура, подавая ему тарелку аппетитных щей. – Света раньше приходит из школы, да и Юрка пробегается, есть просит.
Павел понял, что она Светку кормит отдельно от него, потому что при нём дочь не может есть, выходит из-за стола голодная.
И не стала больше Шура гнать его в воскресенье на дневной сеанс с ребятишками в кино. Не ворчала, что никак он не соберётся сделать ребятам катушку-ледянку в огороде.
* * *Ссора получилась очень нехорошая. Слов было сказано немного, но все они были обидные и несправедливые.
– Не пойму я тебя, – раздеваясь поздним вечером в спальне, угрюмо сказал Павел, – чему ты радуешься? Чего ты перед ней зубы скалишь? «Привыкает… привыкает…» Где же она привыкает? Чего ты хвалилась? Она тебя признавать не желает, а ты, знай, похохатываешь. Вот уж истинно: ни бревном, ни пестом не прошибёшь.
Шура резко обернулась, губы у неё дрогнули, но плакать она не собиралась.
– Я, конечно, извиняюсь, Павел Егорович… – ядовито усмехаясь, сказала она, бросив за спину тяжёлую косу. – Не пойму я глупым своим умишком: на кого это вы рычать вздумали? – Она прищурилась язвительно, но вдруг, вся залившись гневным румянцем, шагнула к нему почти вплотную: – Может быть, это я её в девках нагуляла, а теперь вот привела да тебе на шею посадила?! Получай подарочек, дорогой муженёк, расплачивайся за мои старые грехи. Воспитывай моего найдёныша, а я посмотрю, что у тебя получится, какой ты есть воспитатель, годишься ли в отцы моей доченьке? А сам ты кто? Дядя чужой или отец? Ты хоть раз спросил: каково мне с ней? Посоветовал мне, помог чем-нибудь? Ты, месяца не прошло, на стенку от неё полез; а я скоро полгода мучаюсь. Меня, видишь ли, она не признаёт, а тебя признаёт она за отца? И много ли сделал ты, чтоб она в тебе отца признала? Чем ты к ней заботу свою проявил? В кино с детьми сходить и то не допросишься. Сколько раз просила – сделай ребятам катушку! И неправда, что она нисколько не привыкает. Это при тебе она не только есть, а даже шевелиться не может. Ничего ты не понимаешь! Ты уж хоть не лезь, не мешай мне, не ломай того, что сделано. Разве я виновата, что она такая?!
– И я не виноват. Внушила ей мать чёрт-те что. Неужели ты не понимаешь? Она же ненавидит нас, – угрюмо буркнул Павел, отвернувшись к стене.
Мысль эта, неотступная, неотвязная, не давала Павлу покоя. Что могла Наталья внушить ребёнку? Как такую маленькую научила ненавидеть отца? За что? Снова начинал Павел ворошить, перетряхивать прошлое. Нужно было в конце концов доказать, что нет его вины перед Натальей, что она самовольно повернула не только свою, но и Светкину и его судьбу, куда ей вздумалось.
* * *…В Покровку Павла отправили трактористом сразу после окончания межрайонной школы механизации. Это теперь в Покровском и клуб новый с кинобудкой – картины через день показывают, и школа, и магазин как игрушечка. А тогда только и было, что старая колхозная контора да почтовое отделение в пятистенном домишке.
Завернув как-то на почту за конвертом, Павел очень обрадовался, увидев в углу, подле окна, небольшую витринку с книгами.
Когда случалось попутье, он брал книги в сельской библиотеке на центральной усадьбе, но такое попутье выпадало нечасто, и временами, бывало, хоть волком вой от тоски. И взвоешь, если читать нечего.
А тут, надо же, такое удобство: зайди на почту и купи себе книжку или журнал, какой на тебя глядит, а с получки и на две, и на три книги можно раскошелиться.
На квартире Павел стоял у бригадира Исаева. Семья была небольшая, трезвая, но очень уж все любили поговорить. А на почте было всегда тихо, никто не шумел, не вязался с пустяковыми вопросами или разговорами, слушать которые было совершенно неинтересно.
В выходной день Павел являлся на почту как на дежурство, иногда сразу после завтрака. Долго выбирал на витрине книгу, а выбрав, платил за неё почтальонше деньги и закладывал новокупку за брючный карман на животе.
Потом снимал с витрины свежий журнал и усаживался бочком на подоконнике, чтобы не занимать единственного табурета, стоящего у стола для клиентов. И сидел, пока не начинало от голода бурчать в животе. Однажды он пришёл после обеда. Взял с витрины журнал «Огонёк» и позабыл обо всём на свете. Давно закончился у Наташи рабочий день, давно уже закрыла она входную дверь на крючок, а он всё сидел, согнувшись, на подоконнике. А когда она негромко окликнула его из-за своего барьера, он, словно спросонок, поднял голову. И встретил её взгляд, внимательный и дружелюбный. Оказалось, что она, эта худая и всегда неласковая почтальонша, умеет улыбаться.
– Очень уж ты много денег на книги тратишь. – Голос у неё был глуховатый, но доброжелательный и приятный. – Ты же молодой, тебе одеваться нужно хорошо. Ты можешь брать книги у меня. – Она открыла в барьере дверцу. – Иди выбери, какие нравятся. Прочитаешь – приходи сменяй. Тебе надолго хватит. У меня их больше ста.
Квартира у неё была казённая, тут же, при почте. Небольшая комната с сенцами и отдельным ходом во двор. Комната казалась полупустой: узенькая железная кровать, небольшой стол в простенке, два стула, кое-какая посуда на кухонной полке.
И книги.
Везде книги: на столе, на подоконнике, на стульях.
– Вот это все мои, – можешь брать их домой, а это казённые, для продажи, их можешь здесь читать.
В этом тихом углу Павел прижился на удивление быстро. Уютно потрескивают в печурке дрова, на плите, пофыркивая носиком, закипает чайник. С журналом в руках прикорнула на кровати Наташа, а Павел с книгой вольготно расположился на полушубке перед печкой.
В мирной тишине, в приятном молчании проводили они длиннейшие зимние вечера. Намолчавшись и начитавшись до отвала, усаживались пить чай.
Говорили больше о книгах, о прочитанном. Иногда Наташа читала на память стихи, знала она их великое множество. Раньше Павел не то чтобы не любил стихов, а просто как-то не замечал их.
Мне грустно и легко, печаль моя светла…
Наташа произносит эти слова тихо и как-то очень просто, а у Павла больно холодеет в груди, и ему никак не верится, что это тот самый Пушкин, которого они «проходили» в школе и из которого ему не запомнилось ни одной строчки.
Наташу он называл на «вы», и ни разу ему не пришло в голову, что она хоть и некрасивая и немолоденькая, но всё же девушка. И одинокая. А он, холостой парень, ходит к ней и частенько возвращается от неё в ночь-полночь.
О том, что Наташино имя треплет беспощадная деревенская сплетня, Павел узнал от того же Мельникова Николая Михеевича, работавшего в те времена в Покровской кузне.
Наташу Мельниковы знали ещё по детскому дому, жалели её и уважали за строгий характер и правильное поведение. После серьёзного мужского разговора с Николаем Михеевичем Павел решил, что надо раз и навсегда забыть на почту дорогу.
Но оказалось, что это совсем не так просто сделать. Четыре дня он всё же воздерживался, торчал по вечерам в старом, полутёмном клубе или сидел дома, играл со стариками в подкидного, пробовал побольше спать.
А в воскресенье, едва дождавшись сумерек, крадучись, задами, огородами, пробрался в почтовый двор и постучал в Наташино окно.
– Глупый ты человек, Павлик, – вздохнула Наташа, закрывая за ним дверь. – Ну какое мне до них дело? Замуж я за тебя не собираюсь, потому что старше я тебя на целых восемь лет и здоровье у меня слабое… какая я жена? А кто ко мне ходит и с кем я дружу, до этого никому никакого дела нет. Конечно, если ты боишься свою репутацию подорвать, тогда не ходи, а о моей репутации можешь не беспокоиться. И не вздумай заступаться за меня: я сама за себя сумею постоять. Об одном прошу: хочешь ко мне ходить – ходи открыто, не прячься, не крадись как вор.
Вот как она тогда рассуждала.
А ему в ту пору только пошёл двадцать первый год.
И позднее, когда они сошлись, Наташа ни от кого не таилась, не стеснялась, что теперь вот действительно не зря к ней ходит Пашка-тракторист.
В деревне её, конечно, сильно не одобряли, потому что очень уж они были неровня, но в глаза осуждать Наташу никто не осмеливался, да и Павел был не той породы, чтобы можно было над ним безнаказанно зубоскалить или вязаться к нему с советами да уговорами.
А потом Павла перевели в мастерские на Центральную усадьбу.
Первое время он очень скучал, в выходной старался попасть в Покровское, не один раз даже пешком ходил.
Но подошла посевная, и до конца уборочной он мог заглядывать в Покровское от случая к случаю. И видимо, за это время они начали друг от друга отвыкать, а может быть, Павел стал стесняться, потому что хотя о женитьбе и думать ещё не думал, но Шурка к тому времени уже основательно его захороводила.
И Наташа встречала его всё холоднее и отчуждённее.
В последний раз он только постоял с ней на почтовом крылечке… Она даже и зайти его не пригласила. Сказалась больной, и вид у неё, правда, был очень нехороший.
Теперь-то Павел знал, что она в это время была на пятом месяце и уже собиралась с Мельниковыми к отъезду.
Но тогда о беременности её никто не знал, даже Марине Андреевне Наташа призналась, когда они уже были на Севере.
Конечно, в Шурку он тогда здорово врезался, но скажи Наташа о беременности – и он женился бы без единого слова. И Шурку бы оставил, потому что с Шуркой он до женитьбы ничего себе не позволил…
Да разве не предлагал он Наташе расписаться, когда о ребёнке ещё и помину не было? А она усмехалась:
– Нет, уж лучше не надо. Чтобы ты возненавидел меня за то, что жизнь твою сгубила, молодость твою заела? Через десять лет мне под сорок будет, а ты ещё только-только в силу входить начнёшь…
Вот как она тогда рассуждала. Здраво, вообще-то говоря, рассуждала.
Так за что же через Светку казнит она его теперь? За то, что не могла унести дочь с собой в могилу? За то, что досталась её дочь… сопернице?
Так разве в Шурке или в нём дело? Светке жить надо. А как она будет жить среди людей с этаким… кособоким характером?
* * *Как-то Павла по дороге с работы остановил директор школы и долго, подробно, с пристрастием расспрашивал о Светке.
А вечером на огонёк зашёл председатель рабочкома, чего раньше никогда не случалось. Толкуя с Павлом о том о сём, он всё время искоса поглядывал на Светку, окаменевшую в своём углу над раскрытой книгой.
Уже два раза приходила Куличиха из женсовета – баба въедливая, бесцеремонная. Пытаясь втянуть Светку в разговор, смотрела то на неё – жалостливо и тревожно, то на Шурку – укоризненно, с подозрением. Осмотрела всё в Светкином уголке, мимоходом тронула рукой постель, проверила: достаточно ли мягкий матрас скрыт под голубым покрывалом, не кладёт ли мачеха сиротку на голые пружины?
Прибегала Полинка Сотникова, шипела в кухне на Шуру:
– Сама ты виновата, хвалишься, как дурочка, перед бабами: «Светка у меня такая трудолюбивая, такая старательная, такая помощница!» Вот теперь в народе и болтают, что она у тебя и за няньку, и за горничную…
Было ясно, что не случайно и не мимоходом появляются все эти люди в доме Павла. Что не одних учителей тревожит, почему его Светка не такая, как все дети.
Видимо, что-то неладно в семье Павла Егоровича. Неспроста же восьмилетний ребёнок за полгода не смог привыкнуть к семье. Забитого ребёнка сразу видно.
Отец дома находится мало, он и сам многое может не знать, что творится за его спиной. Главная причина, конечно, не в отце…
В воскресенье, после обеда, пришла Людмила Яковлевна, Светкина учительница, молоденькая, строгая – неулыба.
Светка была в кино. В этот день младшие классы под командой вожатых смотрели «Конька-Горбунка».
Лёжа после обеда в спальне, Павел слушал, как Шура демонстрирует учительнице Светкино хозяйство.
Видимо, учительница пришла не в первый раз. Рабочий Светкин столик, книжная полочка, кукольный уголок – всё это она уже видела.
Интересовало её явно совершенно другое. Но Шура ничего не понимала. Она оживлённо тараторила, сама себя перебивая смехом, рассказывала, как утром погасло электричество и Светка в потёмках надела фартук на левую сторону.
Показывала новые книжки, вытащила откуда-то из-под матраца альбом и начала хвалиться Светкиными рисунками.
Людмила Яковлевна сдержанно похвалила и книжки, и краски, и рисунки.
– Скажите, а как Света вас называет? – спросила она вскользь.
– А никак! – рассмеялась Шура. – Не привыкла ещё.
– Странно! – Голос учительницы звучал строго и осуждающе. – А как она называет отца?
– А тоже никак!
Павел стиснул зубы, он готов был и уши зажать, чтобы не слышать её смеха. Неужели эта дурища не понимает, что её подозревают чёрт-те в чём?
– А не очень она у вас перегружена домашней работой? У вас ведь ребёнок маленький?