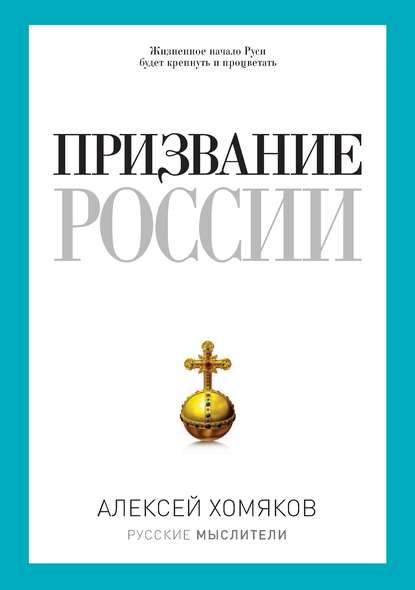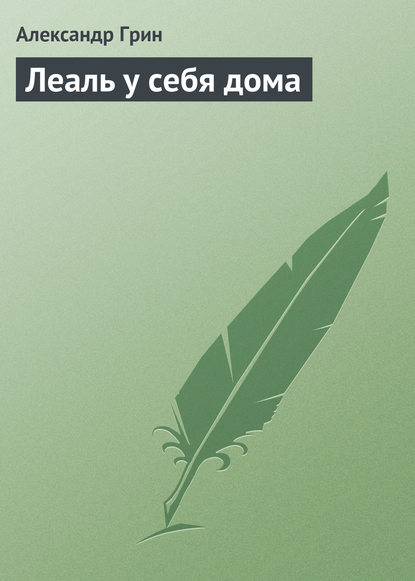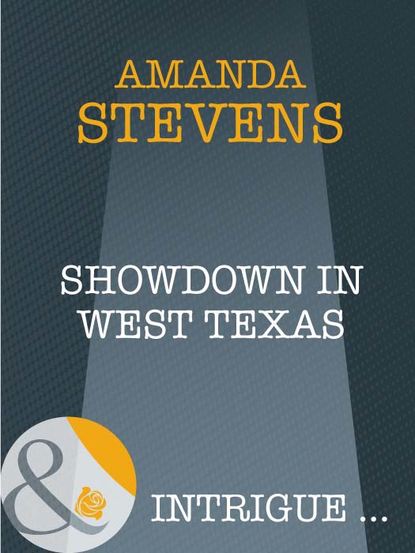Психология обиды и вины. Том1. Обида как средство самопознания
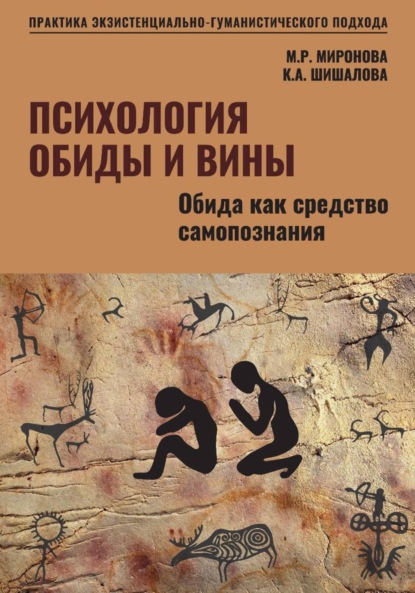
- -
- 100%
- +
Постепенно человек успокаивается и становится способен размышлять. Обвинение и самообвинение складываются в определенную историю события и конкретные вопросы. Например: «Моя лучшая подруга не поздравила меня с днем рождения, хотя я ее всегда поздравляла. Она знает, как мне важно, чтобы она меня поздравила. Она специально это сделала или нет?» Или: «Мой бывший партнер, который утверждал, что не имеет никаких претензий по разделу бизнеса, переманил к себе моего главного бухгалтера. Он старается доказать, что лучше ведет дела или просто старается меня разорить? Это что – мы теперь конкуренты и мне тоже так можно?» Иногда, сформулировав однозначное описание ситуации и поставив вопросы, человек успокаивается (или истощается) до такой степени, что следующий этап в переживании обиды пропускается и множество переживаний остаются невыраженными. При таком развитии событий гнев, возмущение и вопрос «кто прав, а кто виноват?» уходят в фон и действуют на поведение без осознания. Если подобного не происходит и возмущение вкупе с недоумением и болью остаются достаточно сильны, то вопрос «кто прав?» запускает следующий этап переживания обиды.
ВВЧ: Что вы делаете в одинокой паузе? От чего зависит ее длительность у вас?
4. Обращение вовне – проверка социальной реакции на событиеВсем знакомы горячие реакции такого типа: «Ну скажи, я ведь права?», «Ну как же можно этого не понимать?» «Как мне на это реагировать?»
Непосредственный контакт с обидчиком по горячим следам
Если гнев и возмущение очень сильны, а обидчик доступен для разговора, человек предпринимает попытку сразу доказать обидчику, что тот категорически не прав («Тебе на меня наплевать, для тебя дружба – пустой звук», «Ты ведешь себя непорядочно, так дела не делаются»).
На данном этапе вступить в диалог, как правило, не удается, цель такого поведения – не объяснить суть своих переживаний, свое понимание ситуации, а заставить обидчика признать свою вину. Довольно часто в этот момент мы не понимаем, что нами движет, и искренне считаем, что говорим о своих чувствах и объясняем свою позицию. Хотя на самом деле с точки зрения функции обиды такие действия направлены на охрану собственных ценностей, собственного понимания норм и законов общения. Даже если удается заставить другого признать вину, ситуация с высокой вероятностью повторится, т. к. мотивы действия обидчика и собственные реакции не были по-настоящему поняты. Получив обвинение в пренебрежении дружескими связями, подруга может обидеться в ответ, формально извиниться, определив наши переживания как «пунктик» или особую обидчивость. Хотя, возможно, уже на этом этапе ситуация исчерпает себя и закончится: если, например, обидчик ярко переживает вину и совершит положенные действия (извинится), иначе говоря, поведет себя, как «свой». В таких случаях обида далее становится не нужна и утихает сама по себе.
Но зачастую, чем более резкие обвинения мы бросаем, тем менее вероятно «правильное» поведение обидчика. Даже если обидчик чувствует себя «правильно» (то есть виноватым), сила высказанных ему обвинений, гнева и возмущения может воспрепятствовать адекватному выражению вины. Уж слишком сложные и противоречивые чувства возникают в ответ на обвинение.
Получив обвинения в непорядочности, бывший партнер по бизнесу и приятель, скорее всего, оскорбится и перестанет быть нашим приятелем. Даже если в глубине души сам считает свои действия сомнительными.
Столь же вредоносен другой распространенный вариант поведения, основанный на «не переработанной» обиде – ничего не объяснять, никого не обвинять, но всячески демонстрировать свою обиду. Обидчик, несомненно, почувствует себя неловко, ему будет понятно, что в ваших отношениях что-то разладилось, но без объяснения у него зачастую нет даже шанса понять, кто и что сделал не так. Ситуации человеческого взаимодействия слишком сложны и неоднозначны: если на детской площадке один ребенок отнимает у второго игрушку и обиженный кричит и плачет, обидчик вполне может сообразить, что, собственно, пошло не так. Но в ситуациях «ты не поздравила меня с днем рождения», «ты не имел права сманивать у меня главного бухгалтера» или, например, «я тебе еще летом говорила, какой подарок хочу получить на Новый год» связи между действием и обидой слишком неявны, слишком разбросаны во времени, чтобы обидчик мог легко и без объяснений понять, что именно он сделал не так. Более того, если подруга считает, что дружба необязательно предполагает поздравление с днем рождения, или бывший партнер по бизнесу полагает, что у ценных кадров должен быть выбор работодателя и они могут сами решать, где им лучше, а муж убежден, что жене лучше самой себе покупать подарки, то ситуации просто обречены на повторение, а «обидчик» даже не поймет, чем, собственно, вызвано охлаждение в отношениях. Возможно, он даже будет считать себя вправе обидеться на немотивированный, с его точки зрения, обрыв контакта.
Значительная часть нашего общества убеждена, что объяснять причину своей обиды – значит ронять свое достоинство, унижаться. Мы довольно часто встречаемся с утверждениями, подобными сакраментальному: «Если ты этого не понимаешь, то объяснять бесполезно». На наш взгляд, такая позиция приводит не к сохранению достоинства, а к потере контакта. Конечно, объяснять свою позицию, говорить о своих чувствах довольно непросто и рискованно, потому что мы демонстрируем уязвимость и рискуем не получить понимания. Но по-другому разрешить обиду и улучшить отношения вряд ли возможно.
Опосредованный контакт с обидчиком – через мнение группы
Если немедленный разговор с обидчиком невозможен, обиженный человек идет другим путем. Сформировав в одинокой паузе описание ситуации (рассказ, историю) и вопросы с недоумениями, обиженный пытается рассказать окружающим о своей обиде, получить поддержку и выяснить, законна ли его обида и кто в данной ситуации прав. Это очень конструктивные действия, хотя со стороны они могут выглядеть как жалобы, кляузы и вынесение сора из избы. Такое отношение к жалобам довольно часто препятствует выносу ситуации на обсуждение вовне и делает обиду практически неразрешимой. Самым жестким примером является сильнейшее нежелание жертв домашнего насилия публично рассказывать о происходящем у них в семье. При очень тесной связи внутри семьи такое «разбалтывание» тайн всем встречным и поперечным обеими сторонами воспринимается как предательство. При этом и нежелание говорить, и нежелание слушать по большей части – автоматические реакции, связанные с отношениями «свой–чужой». Рассказ посторонним об интимных моментах действительно расшатывает тесные связи с обидчиком – на благо или на беду.
На наш взгляд, обсуждение обиженным своего понимания ситуации с окружающими имеет следующие функции:
• во-первых, способствует отреагированию им особо сильных чувств – гнева и возмущения;
• во-вторых, восстанавливает его связи с социумом, делает одиночество не таким всеобъемлющим, смягчает любую глобализацию ситуации – «теперь никогда» или «вечно я…» может поменяться на «с людьми такое случается…» или «все гораздо сложнее, чем казалось…»;
• в-третьих, позволяет получить поддержку от сочувствующих слушателей;
• в-четвертых, многократное проговаривание ситуации позволяет лучше отреагировать эмоции, расширить описание ситуации, выявить какие-то нестыковки, заполнить пропуски, восстановить всю ситуацию полнее;
• и, наконец, если слушатели не встают на сторону обиженного безоговорочно, то он получает возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны, что подготавливает его к следующему этапу переживания обиды.
Отсутствие поддержки со стороны, конечно же, может вызвать вторичную травматизацию, загнать человека еще глубже в ощущение одиночества и глобальной обиды – в таком случае человек, скорее, подвергается давлению, направленному на изменение его системы конструктов «я-и-мир». Грубо говоря, ему объясняют, что его обида незаконна, потому что незаконны его ожидания, вызванные неправильно понятыми законами общежития и общения. В большинстве случаев мы соглашаемся, иногда делаем вид, что соглашаемся, и просто поддаемся давлению обстоятельств. Поддержка сообщества – слишком большая ценность, мы стремимся сохранить ее, даже поступаясь иногда своими мнениями и интересами.
Считается, что мы свободны принимать или не принимать взгляды группы или общества, но не всегда у нас действительно есть такой выбор, потому что не всегда существует возможность осмыслить ситуацию или даже просто воспринять ее как требующую осмысления. К примеру, мы учим ребенка делиться и не обижаться, когда не весь пакет конфет достается только ему, учим быть вежливым и не обижаться на более слабых или младших и иным важным и нужным вещам. Как правило, мы объясняем ребенку, в чем важность и цель такого поведения, но довольно часто просто говорим «так принято, так правильно», и ребенок это принимает. Подобное является одной из форм обучения, создающей непререкаемые, аксиоматические опоры в общении, которые существенно упрощают существование людей в сообществе, но они же становятся тормозом в новой ситуации (например, если тебе не достается ни одной конфеты из твоего пакета), не дают опознавать ее как новую. Иногда мы не сразу понимаем, что наше мнение отличается от мнения других, порой не можем сформулировать различия. В таких случаях срабатывают привычные автоматические и полуавтоматические реакции – согласиться и не протестовать, и обида остается с нами – непонятой, неусвоенной – до тех пор, пока мы не придем в состояние способности (физической, интеллектуальной, эмоциональной, моральной и т. п.) разобраться с этой обидой и этим окружением.
Итак, обсуждение ситуации с разными людьми, которые могут смотреть на действия обидчика с разных позиций, подталкивает нас к следующему этапу.
ВВЧ: Легко ли вам рассказывать о своей обиде? Что для вас важнее: пожаловаться или посоветоваться?
Анализ ситуации
Анализ ситуации происходит в основном во внутреннем диалоге обиженного без непосредственного участия обидчика.
При нормальном течении переживания на данном этапе возмущение и гнев гаснут, острота переживаний сглаживается, и мы становимся способны увидеть остальные свои переживания: стыд, обиду, досаду, вину, горе утраты, одиночество, страх одиночества, желание продолжать отношения. Формируется мотивация на разрешение ситуации, в той или иной степени приходит понимание собственной активной роли во всей ситуации.
Именно на этом этапе происходит опознание переживания обиды и признание факта обиды (легализация) («Да, я обиделась на подругу», «Да, я очень обижен на приятеля»). Такое признание содержит в себе ростки ответственности и готовности приблизиться к реальности событий. Готовности исследовать, что произошло вовне и внутри меня, и чем на самом деле вызваны переживания25(М.М. Бахтин, Р. Мэй) [12, 37].
Происходит определение момента и причины обиды («Да, я обиделась еще в свой день рождения, потому что она не поздравила меня, я ждала до полуночи, но она все равно не поздравила» или «Да, я обиделся, когда узнал, что он увел моего главного бухгалтера и сделал это тайно»).
Формируется определение нарушенной обидчиком нормы («Я обиделась, потому что считаю, что если ты моя подруга, то должна меня поздравить и не имеешь права забывать о моем дне рождения» или «Я обижен, потому что считаю, что в честном бизнесе все должно быть прозрачно и открыто»).
Принимается решение о дальнейших действиях, например:
• разорвать отношения;
• помириться;
• выяснить отношения с целью принять решение;
• не выяснять отношения, законсервировав ситуацию;
• убедить себя «не обращать внимания»;
• возможны и другие варианты.
Начинается процесс тестирования целей и смыслов выбранных действий. Эффективность и оправданность наших решений и действий определяется и ситуацией в целом, и привычными установками. Одни считают, что поговорить всегда лучше, чем не разговаривать. Другие полагают, что токсичные отношения надо рвать, не задумываясь. Психологи, конечно, всегда за «поговорить», но даже психологам понятно, что это имеет смысл лишь при определенных условиях. Понятно, что разговаривать нужно, имея достаточный ресурс времени, сил, внешней поддержки. На разговор стоит идти, более-менее разобравшись с такими активными чувствами, как гнев, возмущение, страх, чтобы не оказаться в опасной ситуации. Также необходимо понимать, чего мы вообще хотим от этого разговора. В приведенных примерах целью разговора может быть:
• донести до подруги свои чувства, например: «Мне показалось, что я тебе больше не важна. Мне было обидно и одиноко»;
• выяснить, почему она так сделала, например: «Ты плохо себя чувствовала, ты была обижена на меня за что-то?»;
• понять, случайна ли эта ситуация или будет повторяться, например: «Давай обсудим на будущее – мне не ждать от тебя поздравлений в принципе, потому что тебе кажется, что это не нужно?»;
• вникнуть, что нужно сделать для подруги, чтобы впредь она поздравляла с днем рождения, например: «Тебе напомнить в следующий раз? Мне будет существенно легче, даже если ты меня поздравишь с опозданием»;
• готовность понять, что нужно нам, чтобы так сильно не обижаться, например: «Она делает так не специально, у нее нет цели меня обидеть, отсутствие поздравления не означает, что мы больше не подруги».
В менее личной ситуации нарушения неписаных правил партнерства целью может быть ориентация в изменившейся ситуации («Возможно, мы теперь конкуренты, тогда я буду вести себя соответствующе») и выяснение, является ли инцидент просто попыткой померяться силами или это действительно диверсия с далеко идущими целями.
ВВЧ: На что вы чаще всего обижаетесь? Как бы вы описали свою обиду, опираясь на этапы анализа ситуации?
5. Возвращение в контакт, выяснение мотивов обидчика и тестирование внутренних норм на предмет реалистичностиСледующий шаг происходит уже вовне – возврат в контакт с обидчиком (разговор непосредственно с ним) с целью разрешить конфликт, рассказать о своих переживаниях и понять поведение другого. В процессе такого обсуждения в норме человек начинает осознавать прежде не осознаваемые собственные представления о правилах и свои ожидания, с которыми его партнер не согласен или которым не в состоянии соответствовать. Мы обращаем на них внимание, только когда они входят в противоречие с реальностью. В нашем примере с днем рождения мы можем неожиданно выяснить, что наш личный нравственный закон звучит следующим образом: «В любой ситуации и в любом состоянии подруга должна меня поздравить с днем рождения (смерть не является извинением)». В варианте с бизнесом правило может выглядеть так: «Достигнутые договоренности не могут изменяться между порядочными людьми ни при каких обстоятельствах». Формулировки здесь очень важны, потому что только при выражении «нравственного закона» словами становится очевидно, что закон нуждается в корректировке. Если его не изменить, то высок риск обижаться каждый год или раз за разом оказываться в позиции обманутого. Кроме того, может осознаться еще и такая норма: «Если она моя подруга, то для нее мои интересы должны быть выше ее собственных». Формулировка выглядит довольно дико, что не мешает ей быть повсеместно распространенной. Во втором варианте может выявиться нарушение нравственного закона, сформулированного следующим образом: «Порядочность превыше всего, даже конкуренция должна быть открытой и честной». Очевидно, что такая норма нуждается в конкретизации и привязке к реальной ситуации. Эти внутренние законы и правила можно изменить, только осознав и проговорив на словах. Именно поэтому обида является первейшим средством самопознания – она позволяет (заставляет) осознавать фундаментальные законы нашей индивидуальной вселенной.
Если обида возникла не на близкого, а на человека, неправильно или недостаточно хорошо выполнившего свою социальную роль (чиновника, обслуживающий персонал, врача), то на обсуждаемом этапе обиженный человек старается разрешить данный конфликт и свою обиду, не вступая в отношения, а переводя его в русло конвенционального конфликта (жалоба, заявление в суд, обращение к адвокату или посреднику). Это вполне допустимое действие обиды. Обычно выигранный суд очень облегчает переживания, иногда полностью растворяя обиду. Судебное решение, принятая к рассмотрению жалоба, вынесенный выговор, возмещение морального вреда или официально принесенные извинения являются мощным доказательством того, что моя обида была справедливой и я верно понимаю окружающую действительность. Государственные и общественные механизмы очень способствуют растворению обиды, потому что являются проводником и носителем норм, разделяемых миллионами людей. Таким образом проявляется зависимость нашего эмоционального состояния не только от качества, но и от количества полученной поддержки. Сотни тысяч подписей в поддержку обиженного государством человека могут перевесить негативное решение конкретного судьи. Или во всяком случае существенно облегчить страдание от несправедливости.
Непосредственное выяснение отношений с обидчиком должно приводить и к пониманию мотивов его действия, которое мы восприняли как обидное. Довольно часто нам приходится корректировать не только наши представления о собственных нормах, но и представления о том, какими нормами руководствуется наш партнер. Например, мы можем обнаружить, что, по мнению подруги, небольшая обида – ничего страшного, даже освежает отношения, и она готова и дальше использовать мелкие нарушения этикета в воспитательных целях, чтобы обиженная проще относилась к жизни. Или что наш бывший партнер и приятель считает переманивание сотрудников просто ходом в некоей игре и совершенно не рассматривает такое действие с точки зрения моральных и этических норм. К сожалению, нередки ситуации, когда мы выясняем, что обида произошла не столько по небрежности, невнимательности, с целью проверки значимости отношений или из-за разного понимания норм взаимодействия, а была нанесена сознательно – с целью обидеть или навредить. Иными словами, мы можем обнаружить, что тот, кого мы считали «своим», теперь стал «чужим» или никогда и не был «своим». Это безусловно болезненно, но несомненно полезно и более безопасно для дальнейшей жизни.
Поняв ситуацию, выяснив мотивы обидчика, осознав собственные нормы и нарушенные ожидания, человек получает возможность разрешить обиду, избавиться от бремени этого переживания.
ВВЧ: Какую тактику вы выбираете, возвращаясь в контакт с обидчиком? От чего это зависит?
Разрешение от бремени (выход из) обиды
Возможны следующие варианты разрешения обиды.
1. Быстрое растворение – в случае обоснованной обиды, т. е. когда «свой» член сообщества действительно нарушил нравственный закон
• Быстрое получение массовой и значимой социальной поддержки, позволяющей больше не считать обидчика «своим». Поддержка в обществе дает нам возможность фактически создать себе другое «свое» сообщество, более «свое», чем то, куда мы входим с обидчиком. Теперь обидчика можно не считать «своим» – значит, на него можно не обижаться, а гневаться и обращаться к правосудию сообщества. Такое «рассвоячивание» – себя или обидчика – вполне предохраняет от будущих обид и заставляет блекнуть прошлые. Правда, годится только для мелких обид и не очень значимых отношений.
• Быстрое извинение от обидчика. Его правильные действия сохраняют за ним статус «своего» и подчеркивают правоту и обоснованность наших желаний, позволяя быстро растворить обиду. Правда, подобное случается, только если между вредоносным действием и извинением проходит небольшое время. Если длительность периода превышает определенный порог (индивидуальный), обида фиксируется и превращается в давнюю, которая так просто не растворяется.
• Немедленное добровольное искупление обидчиком причиненного им вреда тоже относится к правильным действиям, позволяет установить более тесную связь как с обидчиком, так и с сообществом. Искупление вреда позволяет создать общность между обидчиком и обиженным на более широком уровне общего поля (контекста) – исторического, социального, и нравственного. Дело в том, что механизм искупления вреда – очень древний механизм, освященный веками. И готовность обидчика возместить ущерб является для обиженного психологически несомненным доказательством собственной значимости и того, что обидчик – действительно «свой».
Явно выраженная готовность обидчика понести наказание26, что подтверждает правоту обиженного, законность его обиды.
2. При сформированной обиде любой природы и давности, когда обидчик действительно нарушил правила
• Прощение обидчика
обиженным. Прощение может происходить и без участия обидчика. Это сложный психический процесс, который ниже мы подробно опишем отдельным образом.
• Месть обидчику.
Месть – явление чрезвычайно неоднозначное, но реально существующее и имеющее непосредственное отношение к обиде, которое невозможно оставить без внимания. Во многих случаях месть обидчику действительно позволяет обиженному человеку выйти из обиды. Подробнее процесс мести тоже опишем позже.
Расчеловечивание обидчика – лишение его статуса «своего» и статуса человека вообще. Если «чужой» или «не-человек» совершает враждебные действия в отношении меня, я не обижаюсь – я злюсь, гневаюсь или пугаюсь и делаю все возможное с моей стороны, чтобы прервать наше взаимодействие, вплоть до агрессии или бегства.
3. В случае необоснованной обиды: когда наши ожидания оказались неоправданными, или мы нереалистичны в своем понимании нравственного закона сообщества
В такой ситуации разрешением от беремени и выходом из обиды могут быть следующие действия:
• переформулирование своего понимания законов общества, перестройка системы конструктов «я-и-мир»;
• восстановление отношений с «как бы обидчиком»;
• возможно, извинения перед ним или группой за необоснованные претензии и растрату ресурсов. Работа с виной и стыдом (См. Часть IV).
В данном случае самой сложной частью работы является прощение себя за необоснованную обиду и неточное понимание реальности. Практически неизбежен экзистенциальный кризис, вызванный необходимостью изменения и принятия нового образа «я».
ВВЧ: Что для вас является наиболее частым разрешением от бремени обиды?
Глава 6. ОСОБЫЕ ОБИДЫ (С РАСЩЕПЛЕНИЕМ «Я» НА ЧАСТИ)
Особыми обидами мы считаем следующие виды обиды:
• гендерную (мужскую и женскую);
• возрастную (обида явного младшего и явного старшего);
• ролевые обиды;
• обиду на высшие силы;
• обиду на себя;
• давнюю обиду.
Мы выделяем их в особую группу, поскольку они отличаются от других обид общим свойством: они крайне болезненны, их очень сложно объяснить в силу глубокой иррациональности, трудно (а иногда стыдно) выделить вредоносное действие, а, стало быть, их особенно тяжело лечить. И главное, на наш взгляд, они все существуют и реализуются благодаря расщеплению я на части, которые далее мы будем называть субличностями.
POU STO Мы считаем расщепление нашего я на крупные и мелкие части вполне нормальным процессом, относящимся к процессам активной адаптации психики к сложным изменчивым процессам реальности. Патологичным, болезненным расщепление становится, если отрывается от такой своей функции. Останавливаться на этом подробно и обосновывать данное положение в настоящем тексте не совсем уместно, поэтому мы и не будем. Вопроса о природе субличностей и расщепления тоже касаться не будем, дабы не перегружать текст. Скажем только, что в данном случае мы имеем в виду части личности, обладающие определенной долей самостоятельности, часто действующие вразрез с осознанными интересами целостной личности (хозяина). Отщепленные части могут называться по-разному – в соответствии с источником возникновения, механизмом обособления, динамикой существования, размерами, основной функцией и многими другими факторами. Мы же будем пользоваться термином «субличность» как самым распространенным.