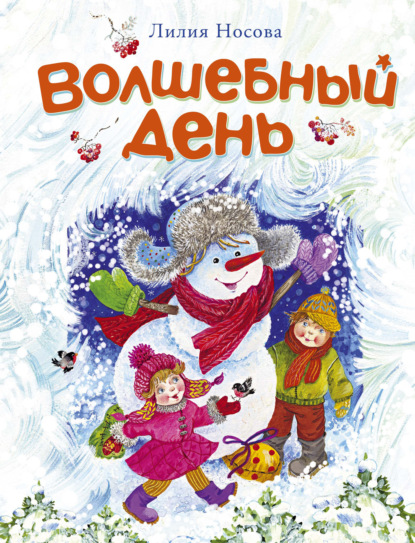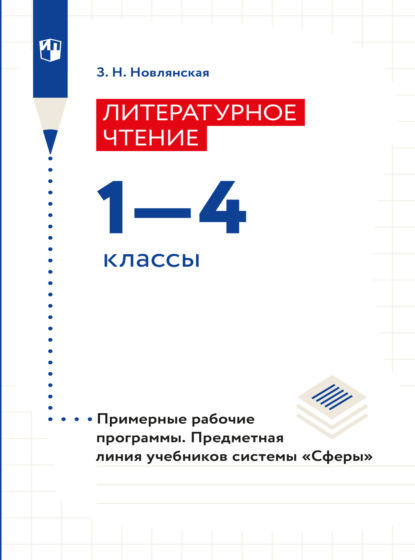Оркестранты смерти. ч.1. Симфония войны

- -
- 100%
- +

Предисловие автора
Посвящается всем российским бойцам, воевавшим в зоне СВО, – живым и погибшим!
Когда мы мимоходом смотрим по телевизору похороны солдат, там все необычайно красиво: склоненные знамена, много людей, трубы военного оркестра рявкают медью что-то торжественно-печальное, дети кладут красные цветы на крышку гроба… громыхнет вразнобой залп прощального салюта, и кто-то обязательно скажет, что мы никогда не забудем тех, кто отдал свои жизни за Родину, и в наших сердцах они останутся с нами навечно.
Но мы живем в очень быстро меняющемся мире. Пройдет три месяца, может, полгода, и цифровой ветер сметет из смартфонов фотографии и сообщения погибших. А через год уже и мало кто вспомнит, где воевал солдат, что он там делал, почему его нужно считать героем.
И хочется этим романом создать информационный обелиск, стелу в недрах интернета, на которую, быть может, наткнется однажды сын нашего солдата, и прочитает надписи на ней, и немножко прикоснется к тому, где был и что делал его отец, и будет им гордиться. Говорят, что интернет помнит все, в отличие от нас, простых смертных.
Наша история – о мужестве и предательстве, ошибках и любви. Она о том, как один город стал символом борьбы для обеих сторон, где каждый дом превратился в поле боя, а каждый новый день приносил потери, ужас и надежду, что однажды это все закончится.
Все события в книге являются вымышленными, любые совпадения следует считать случайными. Автором не ставилась цель написать документальный роман, перед вами военно-приключенческая книга, где художественный образ преобладает над исторической правдой.
Историческая справка: Бахмут
Битва за Артемовск, он же Бахмут, стала одним из самых кровопролитных эпизодов военного конфликта на востоке Украины. Сражения за город, расположенный в Донецкой Народной Республике, продолжались с 1 августа 2022 года по 20 мая 2023 года. Этот период вошел в историю как один из ключевых этапов специальной военной операции.
«Бахмутовская мясорубка» – так окрестили СМИ эту битву. Город превратился в эпицентр ожесточенных столкновений, в которых ежедневно гибли сотни бойцов.
Соотношение сил: ЧВК «Вагнер» действовала против войсковой группировки противника, превосходящей ее по численности в четыре раза.
Пролог
…Кровь, теплая и липкая, лениво затекая под тактическую перчатку, согревала онемевшие пальцы, чтобы потом пролиться на темно-ореховый итальянский паркет, прожигая замерзшие на нем серые кляксы лужиц.
Комар «вытекал». Жить ему оставалось минуты, но Француз, понимая всю бессмысленность своих действий, стоя на коленях, одной рукой силился зажать разорванные пульсирующие сосуды в развороченном плече товарища. Осколки раздробленной кости впивались в перчатку, будто умоляя не отпускать рану, дать пожить телу еще чуть-чуть. Второй рукой Француз пытался удержать рыскающий ствол автомата в дверном проеме, ведущем в соседнюю комнату. Там, слева, за стеной, притаился враг, который уже убил товарища и теперь выжидал момент, чтобы прикончить и его.
«Это твоя вина…» – в оглушенной взрывом голове крутилась одна мысль. Разведгруппа вагнеровцев погибла из-за его ошибки, поверили пленному, недооценили противника. Но шанс выполнить задание еще был. Вот только человек за стеной, похоже, думал иначе.
«Очнись, сука!» – внутренний окрик заставил Француза собраться. Он оттолкнул тело Комара в сторону, давая струйке крови долгожданную свободу, и перекатился к стене, чувствуя, как сломанные ребра огненным кольцом боли сковывают дыхание, как осколки стекла, куски штукатурки врезаются в тело. Вжался в пол и замер. Срочно нужен был план, как выйти из дома живым, а думать не получалось.
За стеной послышалось вязкое шевеление, затем снова тишина. Медленно, красиво клубясь в лучах восходящего солнца, оседал пороховой дым, смешанный с пылью. Сквозь выбитые окна в дом заглядывало холодное зимнее солнце, удивляясь глупости людей, решивших почему-то прикончить друг друга. В комнатах дорогого особняка, еще минуту назад оглашаемых треском автоматов, хрипами раненых, взрывами гранат и русским матом, наконец-то воцарилась мертвая тишина.
В книжном шкафу на противоположной стене стоял пробитый осколками гранат школьный глобус. И вдруг Француза откинуло назад. Нет, не в пространстве, а во времени. В то воскресное утро, когда войны в его жизни еще не было…
Глава 1. Сын
Утро – это кайф! Ну вот люблю я бегать по утрам. Эту любовь мне привил наш физрук из средней школы уже несуществующей страны, фанат своего дела Попов Аркадий Михайлович, которого все называли просто «Михалыч». В ярко-красном спортивном костюме, с неизменным синим свистком, рыжая борода в семь утра собирала мальчишек по микрорайону на пробежку. Приходил кто хотел. Иногда, особенно в хорошую погоду, собиралась человек двадцать, а иногда один-два. Чаще всего бегали по школьному стадиону, поэтому каждый мог выбрать ту дистанцию, на которую хватало сил. И даже если ты, устав, переставал бежать и просто начинал идти, тяжело дыша, по черной, засыпанной асфальтовой крошкой беговой дорожке, ты был в команде, был вместе со всеми. Обгоняющие товарищи норовили хлопнуть тебя по спине или прокричать что-нибудь веселое, торжествующее.
Короткие дистанции давались мне с трудом, а вот три, пять, десять километров приносили истинное наслаждение. Особенно когда, выложившись на последних ста метрах, ты бухался в траву, перекатывался на спину, глотая воздух и чувствуя, как взлетаешь в голубое небо вместе с каждым выдохом. Как тебе становится легко, и только приятная усталость напоминает, что ты сегодня смог обогнать всех и практически настиг Михалыча…
Я вбежал потный, веселый, наполненный весенней улицей, на третий этаж к себе домой на Кораблестроителей. Жена с кем-то разговаривала на кухне по телефону. Я прошмыгнул мимо нее к графину с водой, налил стакан живительной прохлады, о которой мечтал последние десять минут. Поднес ко рту, чтобы выпить в два глотка, и руку словно парализовало…
Жена! Ее кожа была неестественно белая. А мне всегда казалось, что выражение «белее снега» – это выдумка писателей. Лицо жены застыло, зрачки неестественно расширились.
– Да… – сказала она в трубку. – Да… Сейчас будем.
Потом она, словно робот из плохого фантастического фильма, всем телом развернулась ко мне:
– Сережа с друзьями сегодня утром попал в аварию на Невском проспекте. Двое погибли, а он… он сейчас в реанимации. Звонила медсестра с его телефона.
– Часом не «развод»? – попробовал я уцепиться за ускользающую под ногами опору.
– Нет. У нее паспорт сына, он был вместе с телефоном в его куртке. Она сказала, что травмы тяжелые, но жить будет. Нужно приехать… в Мариинскую больницу, в приемный покой…
Мы быстро переоделись, вышли, сели в машину. Я закурил. Жена попросила сигарету, покончила с ней в три затяжки, потянулась за второй.
Сын, с тех пор как поступил на первый курс института Герцена, художественный факультет, с нами демонстративно не жил, хотя мы ему предлагали. Уехал в студенческую общагу. Уже с середины 10-го класса (многие родители меня поймут) наши отношения не клеились. Мы раздражали друг друга, и уже через пять минут после совместного нахождения в одной комнате пространство между нами начинало искрить. Меня раздражали его манера одеваться, оставлять после себя недоеденные куски бутербродов, беспорядок в его комнате. Он никогда не ставил в раковину чашку из-под чая с желтым кусочком лимона на дне. На мои предложения сходить на каток, или на лыжах, или что-то сделать вместе, отвечал уклончивым хмыканьем или дежурным «хорошо», после которого ничего не происходило.
Он любил рисовать. Еще в начальной школе на все праздники делал для меня поздравительные открытки, забавные, с ошибками в словах и всегда очень яркие. В старших классах стал рисовать аниме: раскосых школьниц в коротких юбках, грудью пятого размера и самурайскими мечами за поясом. Рисовал он хорошо, но мне казалось, что эта подростковая тяга к женскому телу – это что-то неправильное, стыдное. На мои попытки «включать отца» и делать какие-то нравоучения его глаза становились колюче-злыми, речь – отрывистой, и суть ее сводилась к одному слову: «Отвали».
Ученые говорят, что такое поведение придумала природа. Подросший птенец должен раздражать родителей, чтобы они быстрее вышвырнули его из гнезда, а он начал скорее взрослеть. Что и произошло после выпускного и поступления в вуз. И его, и моя жизнь резко стали проще и спокойнее.
И вот теперь авария. Все, что происходило в голове у жены, все ее мысли я чувствовал каждой клеточкой своего тела.
«А если бы он жил с нами, он бы не попал в эту аварию? А если бы у нас была дружная семья, он, наверное, не поехал бы ночью кататься с пьяными друзьями?»
Мысли были абсурдными и отскакивали в черепной коробке одна от другой.
Подъехали. Я какое-то время искал место для парковки, потом пытался оплатить ее через телефон.
– Давай быстрее! – не выдержав, зло бросила жена.
– Если он в реанимации, пять минут роли не сыграют, – так же раздраженно ответил я.
Прошли по двору, крутя головами в поисках заветной таблички «Приемный покой». Поблуждав минут пять, таки добрались до отделения скорой неотложной помощи. Вошли и растерялись. Сразу от входа, как в аэропорту, стояло четыре ряда кресел, забитых людьми. Кто-то сидел на пластиковом стуле у стены, баюкая забинтованную руку. Мама обнимала четырехлетнюю дочку, которая даже не плакала, а скулила, как маленькая собачонка. Здоровый санитар с двухдневной щетиной катил куда-то каталку с лежащей на ней бабкой лет ста от роду. У бабки во рту торчал только один желтый зуб, в прижатых к груди руках она держала вязаную коричневую сумочку и абсолютно бессмысленными глазами что-то рассматривала на потолке. Два фельдшера в синей униформе и с ярко-оранжевыми чемоданчиками скорой помощи, весело переговариваясь, пронеслись мимо нас к выходу, на ходу вытаскивая из кармана по пачке сигарет.
К нам подошла молодая симпатичная медсестра и, узнав, что сын лежит в реанимации на втором этаже, повела нас на склад одежды, чтобы отдать паспорт и телефон.
– Не волнуйтесь, операция проходит успешно. Вам нужно подождать еще полчаса и поговорить с оперирующим врачом, он все расскажет. А пока у меня к вам просьба: вы знаете друзей вашего сына? – Она взяла паузу, долго, не мигая, переводя взгляд с меня на жену и обратно.
Я неопределенно пожал плечами. Кого-то я видел у нас дома, кого-то на выпускном. Жена, которая в нашем семейном противостоянии всегда была на стороне ребенка и не раз прикрывала его от моего гнева, была более вхожа в молодежную тусовку. Она робко кивнула.
Медсестра чуть замялась:
– У двух остальных, тех, что ехали с ним в одной машине, документов нет, а телефоны разбиты. Вы очень поможете нам, если попробуете опознать ребят. Это важно для их семей.
Мы переглянулись, и я нехотя кивнул за жену.
Медсестра сразу стала торопливой, словно боялась, что мы передумаем и откажемся. Затараторила, заглядывая мне в глаза снизу вверх:
– Они сейчас в патологоанатомическом отделении. Нужно просто перейти через двор, это займет две минуты. Вам все равно ждать…
Мы вышли на улицу. За красивым названием «Патологоанатомическое отделение» скрывалось желтое облезлое здание, в котором находился обычный морг. В гулком большом зале, отделанном кафельной плиткой – где-то отваливающейся, потрескавшейся, – стояли металлические столы, на которых лежали тела, накрытые белыми простынями. Медсестра подвела нас к ближайшему, откинула простыню, чтобы мы могли увидеть лицо покойника.
Жена захрипела, подавившись слюной, и сползла по мне на грязный затоптанный пол уже без сознания. Это был наш сын…
Они возвращались на машине друга с какого-то дня рождения, и один из приятелей попросил у сына куртку, погреться. Из-за этого и возникла путаница. Смерть цинично посмеялась над нами, подарив, а потом забрав надежду в морге Мариинской больницы по адресу Литейный, 56Я.
Следующая неделя прошла как в тумане. Я занимался организацией похорон, что-то ел, что-то пил, даже делал утреннюю зарядку. С кем-то разговаривал на работе – я занимался продажами услуг в сфере экологического надзора – потом попросил у начальника краткосрочный отпуск. Где-то внутри себя я удивлялся собственной бесчувственности. Сильных переживаний по поводу дурацкой, глупой, абсолютно нелогичной гибели сына у меня не было. Но на седьмой день мир выключили полностью.
Он стал серым и не про меня. Краски исчезли. Смыслы, значения, планы на будущее были стерты в сознании. Чтобы это было понятно, представьте: серое утро, переполненный душный автобус. Спертый воздух, голову мотает из стороны в сторону на ухабах. Ты не можешь двинуться, сжатый серыми телами людей. Тебя куда-то везут, но куда – неясно, ведь в окне только серость. И вся вера – лишь в то, что ты сел в нужный автобус. Исчезли жена, телефон, ежедневник на столе. Нет, они все, конечно, были, но я их не видел.
На сороковой день пришел сын. Вот и не верь потом богословам. Я проснулся ночью, как от толчка в спину. Он сидел на краю, молчал, растирая свои длинные пальцы, запачканные тушью и масляной краской. Улыбнулся мне чуть исподлобья, через свисающую на глаза длинную челку. Я рассказал ему взахлеб все: что произошло со мной, с мамой за этот месяц, как нам теперь трудно без него. Что я бросил пробежки и каждое утро листаю его альбом со школьными рисунками. Что я… Он иногда хмурился, слушая истории про маму, порой демонстративно закатывал глаза, когда я говорил, какие рисунки мне особенно понравились. Я обещал, что обязательно познакомлюсь со всеми его друзьями, и он всегда может рассчитывать на мою поддержку, что бы ни случилось… Он как-то робко, застенчиво улыбнулся мне и положил свою ладонь на мою руку…
Когда я проснулся, подушка была залита слезами и кровью. Нижняя губа прокушена, а в сведенном судорогой кулаке был зажат угол простыни.
Наверное, в итоге я бы спился – не по причине горя, а из-за того, что у меня исчезли желания. Не было желания что-либо делать, я ничего не хотел – ни хорошего, ни плохого. То, от чего я раньше получал эмоции, удовольствие, радость, – стало безвкусным. Представьте себе: безвкусный кофе, книги, женщины. Вкус остался только у сигарет и у водки – по крайней мере, у первой стопки.
Но, слава богу, у Вселенной на меня были другие планы, которые она любезно донесла до меня через соседа по подъезду, пенсионера Назара. Назар был инвалидом – у него не было одной ноги, семьи и чувства такта. Это, однако, не мешало ему активно участвовать в общественной жизни нашего дома, даже если дом этого не хотел. Используя костыли как средство передвижения, давления на оппонента или самозащиты, Назар учил жизни всех вокруг – в первую очередь управляющую компанию и коммунальные службы города. Это было смыслом его пенсионерской жизни.
Почувствовав в подъезде любой химический запах, Назар тут же вызывал газовую службу с требованием проверить состав воздуха и предъявить результаты проверки лично ему. Каждый раз, когда злые на него и на жизнь газовщики тыкали ему в нос дисплеем газоанализатора, на котором не отображалось ничего подозрительного, Назар горестно вздыхал, сокрушенно качал головой и сетовал, что и на этот раз ему не удалось спасти всех. После этого он благодарил газовщиков за службу и обещал утроить бдительность.
Когда ему становилось скучно, он звонил в пожарную службу и спрашивал, почему пожарная лестница обрезана на уровне второго этажа, и как соседка Марья Ивановна будет спасаться, если что-то «полыхнет». Учитывая, что Марья Ивановна была женщиной за сто двадцать килограммов с чудовищной одышкой, а жила она как раз на втором этаже и спускаться по обычной лестнице ей было бы точно сподручнее, факт ее появления на пожарной вызывал у инспектора большие сомнения. На что Назар резонно замечал: «А вдруг?»
Так как свободного времени у Назара было много, местных чиновников спасало только то, что он любил водочку. Водочка выключала его способность быстро перемещаться по придомовой территории, но требовала собеседника, которого он тут же находил возле алкогольного магазинчика неподалеку.
В тот день я сидел на скамейке в скверике у дома, с бутылкой пива и сигаретой в зубах. День начинался непривычно ярко. Воздух был напоен сладковатым ароматом цветущей липы. Солнце легкими золотистыми мазками касалось верхушек деревьев, которые шелестели листвой, будто перешептывались о чем-то вечном, недоступном человеческому уху. Пропитанные теплом дорожки вели к скамейкам, где обычно можно было увидеть бабушек, греющихся под ласковыми лучами, или молодых мам, качающих орущие коляски. Но сейчас был будний день, одиннадцать часов утра, и в сквере стояла тишина, нарушаемая лишь чириканьем воробьев и легким шелестом ветра. В центре скверика на клумбе цвели скромные ромашки и яркие бархатцы, а над ними порхали бабочки, словно ожившие лепестки. Тепло летнего дня мягко опускалось на землю, и казалось, что время здесь течет иначе – медленнее, спокойнее. В этом скверике чувствовалась та самая тихая радость бытия, о которой писали Бунин, Пришвин, Паустовский. Здесь, под теплым солнышком, среди зелени и света, можно было забыться и просто быть – частью короткого питерского лета.
Дремотное состояние мое и сквера было нарушено энергичным появлением Назара на костылях и двух мутных типов в бесформенных штанах, грязных сандалиях, стыдливо прикрывающих дырки на не первой свежести носках, и с двумя полиэтиленовые пакетами в руках. На соседней скамейке аккуратно расстелили рекламную газетенку, выставили два белых пластиковых стаканчика, затем Назар достал из кармана свой личный складной стакан благородного черного цвета, из которого старательно выдул все пылинки и крошки табака от сигарет.
На газету высыпали две кучки ржаных сухариков, а также поставили двухлитровую банку гигантских роскошных оливок, и бутылку очень-очень недорогой водки объемом 0,7 литра. Царские оливки резко контрастировали с остальным продуктовым набором, что требовало объяснения. Увидев мою заинтересованность, Назар тут же пояснил, что оливки были конфискованы с ближайшей помойки, куда попали из-за истекшего срока годности. Опережая сомнения в качестве продукта, мне было сообщено, что наука существует не просто так, и поэтому все ок, оливки в банках, вакуум, воздух не проходит, бактерии без кислорода, как человек без ста грамм, жить не могут. Просрочка – это, конечно, не айс, но если банка не вздутая, не пахнет, то, в принципе, риск меньше, чем попасть под колеса таксиста-гастарбайтера. Мне тут же предложили проверить эту теорию, запив для дезинфекции водкой. Я вежливо отказался, хотя оливки, действительно, выглядели аппетитно.
Так как водки было мало, а день выдался хороший, троицей было принято решение пить по чуть-чуть, занимая друг друга легкой светской беседой и острыми политическими темами. А самой острой темой сейчас была…ВОЙНА!
Война, словно зловещая неуловимая тень, пока скользила где-то на окраинах моего сознания, да и, чего уж греха таить, сознания большинства знакомых. Она звучала в новостных сводках настолько абсурдно и нереально, что мозг отказывался воспринимать ее как что-то большее, чем сюжет из дешевого фантастического романа. Но и у этого романа был пролог.
«Украинский город Севастополь – база российского Черноморского флота» – как вам оборотик? Фантасмагория, ставшая явью в 1992 году и, слава Богу, ушедшая в историю зимой 2014-го.
Потихоньку Украина, знакомая по детским каникулам, любимым фильмам Одесской киностудии, произведениям Булгакова и Гоголя, Украина, где жила куча родственников, становилась нацистским государством, шаг за шагом выделяя превосходство одной нации – украинской, одного языка – украинского и одной культуры – украинской – над другими. Поскольку это было невозможно в стране, где большинство населения говорило на русском языке, преследование всего русского стало сакральной государственной идеологией.
На Украине стали убивать за русский язык, за георгиевскую ленточку, за портрет деда в советской форме. А потом в Одессе заживо сожгли в Доме профсоюзов сорок человек. Город-герой стыдливо сделал вид, что это ничего страшного, мол, обошлись малой кровью, но не будет у нас народного восстания, как в Донецке и Луганске, не будет у нас войны. А она, усмехаясь, только настраивала свой симфонический оркестр, проверяла сыгранность музыкантов, точность звучания ракет, бомб и снарядов.
Проверяла ударами украинского штурмовика по восставшей против новых порядков Луганской администрации. Рвущимися в центре Донецка «Градами». Пробовала на вкус расстрел мариупольских полицейских батальоном «Азов» 9 Мая, в самый наш главный праздник.
Слова в новостях об Украине были знакомые и как-то напоминали о стране, в которой я родился и которой всегда гордился. Но та страна осталась лишь в детских воспоминаниях, словно старый, пожелтевший черно-белый снимок, проявленный неумелым школьником в домашней фотолаборатории.
Дым Отечества – пахнет войной. «Русская весна» на Украине стала тем редким моментом, когда история дала России шанс вернуть себе исконно русские земли.
Крым вошел в состав России легко, без крови, почти по волшебному – будто сама крымская земля потянулась к своим.
Минские соглашения стали нашей коллективной капитуляцией. Восемь долгих лет Донбасс горел, а мы делали вид, что не замечаем. Восемь лет Украина строила армию, копала окопы, училась ненавидеть – а мы верили в договоренности. Когда в 2022 году началась СВО, было уже поздно: вместо стремительного блицкрига нас ждали километры бетонных укреплений и поколение украинцев, воспитанных на мифе о «русском враге».
А ведь все могло быть иначе. Летом 2014-го, когда украинская армия была слаба, а Запад еще не опомнился от крымского удара, достаточно было одного решительного рывка – и карта Восточной Европы была бы перерисована навсегда. Но мы опять колебались. Боялись повторить «грузинский сценарий». Боялись быть «агрессорами», а в итоге получили войну, которая длится уже десять лет.
И теперь дым пожарищ все так же стелется над Донбассом, посыпая землю пеплом упущенных возможностей.
А Запад методично ввел свою войну, с казенной холодностью и методичностью эсэсовских чиновников, подписывающих смертные приговоры. Сначала – запрет на лечение детей, потом – на банковские счета, въезд на территорию своих стран, обыск нижнего белья в поисках валюты, а затем добрались до кошек.
Я помню, как смеялся, читая новость про русских собак, не допущенных к выставке в Брюсселе. Смеялся до тех пор, пока не увидел фотографию: девочка лет семи в слезах прижимает к груди своего пуделя. «Он же родился в Германии!» – писала мать под постом. Но у пса в паспорте значилось «владелец – гражданин РФ». Достаточно, чтобы наказать!
Это была странная война, где стреляли не только «Хай-марсами». В ход шли визовые анкеты, банковские блокировки, позорные таблички «No Russians» на дверях пражских ресторанов. Мой друг, двадцать лет проживший в Милане, получил письмо от управляющей компании: «В связи с политической ситуацией просим освободить квартиру до конца месяца». Его ребенок, рожденный в Италии, перестал быть желанным пациентом в местной клинике.
Самое страшное – никто не возмутился. Ни «прогрессивное человечество», ни правозащитники, ни звезды Голливуда. Западные СМИ аккуратно называли это «санкциями», будто речь шла о заморозке счетов олигархов, а не о тотальной сегрегации по паспорту.
А потом наступило время СВО! Наши вошли на территорию Украины! Новости стали главной темой для разговоров, телевидение снова стало популярным.
Цепляли, надолго оставаясь в памяти, растерянные, расширенные от ужаса глаза мирных жителей, чудом выживших после падения бомбы, снаряда, ракеты. Новости притягивали внимание, заставляя часами сидеть в телеграм-каналах военных корреспондентов.
Но сильнее всего меня вгоняли в тоску видеокадры, где с квадрокоптеров сбрасывали гранаты на солдат. Камера заботливо показывала, как крошечные, ничего не подозревающие фигурки высыпали из машин, шли нестройной цепочкой по дороге, что-то тащили, складывали, доставали из ящиков, словно трудолюбивые муравьи. Потом от камеры отделялась граната, похожая на мячик, она медленно летела вниз, и мне всегда казалось, что она упадет где-то далеко, в стороне от этих муравьев, что оператор дрона промажет. Но и когда так случалось, после взрыва муравьи падали на спину, смешно дергая лапками, кто-то убегал под деревья, а кто-то лишался конечности, если разрыв был совсем рядом. По кадрам невозможно было разобрать, какого цвета тряпочки на шлемах этих муравьев, и нередко каждая из сторон заявляла об успешном уничтожении противника, предъявляя одну и ту же запись.