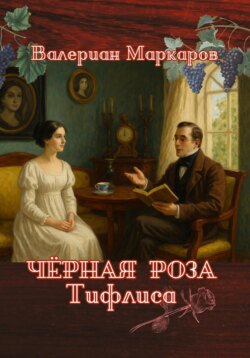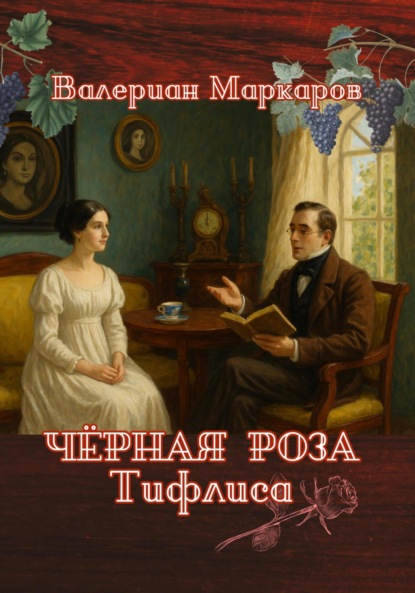Любовь её пережила смерть.
Имя его пережило столетья…
Глава 1
Сухие июньские дни принесли с собой страшные времена. Тифлис, ещё недавно весёлый и шумный, наполненный детским смехом, уличным говором и лаем собак, – словно вымер. Город, где жизнь начиналась с первыми лучами солнца, где под утренним светом закипали базары, раскрывались ставни, скрипели колодцы и доносились звуки флейты и женского пения, – затих.
Нарядный, пленительный, он утопал в зелени: раскидистые чинаровые кроны, вековые липы, мохнатые каштаны, кусты алых и белых роз, наполняющие воздух терпким, головокружительным ароматом. А вокруг города – древние развалины крепостей и башен, источающие безмолвие старины. За ними – синеющие вдали горы, над которыми серебрятся в перламутровой дымке недосягаемые вершины Эльбруса и Казбека. В поднебесье по-прежнему парят орлы. Но сам Тифлис был мертвенно тих. Всё живое словно ушло в себя, спряталось, затаилось.
Грозная гостья с жёлтых, иссушённых ветром персидских земель – она явилась без приглашения, неся на себе пыль караванных путей, дыхание пустынь и зловонье мертвечины. С неторопливой последовательностью захватывала она города и веси, сокрушала их растерявшихся и беспомощных жителей. Огромной чёрной птицей долетела она и до берегов Куры; раскинув гигантские крылья, парила над черепицей домов, над дворами, над базарами, над монастырями. Каждый, кого она осеняла, падал – не как воин, а как муха в жару: без крика, без молитвы, с выцветшими глазами.
Холера – свирепое и ненасытное порождение нечистой силы – убивала стремительно, не оставляя времени ни на прощание, ни на раскаяние. Час назад – человек здоров, бодр, за чаем в гостиной; час спустя – синеющий, высохший труп. Смерть приходила, как лихорадочный сон, без логики, без жалости. Её не трогали богатство, чин, добродетель, святость – она уравнивала всех. Умирали князья и торговки, епископы и ремесленники, дети и старцы.
Страшное безлюдье и пугливая тишина царили в городе. Редкие прохожие с замотанными тряпками лицами, выпачканные дегтем и пахнущие чесноком, бродили по улицам как тени. По вечерам сквозь заложенные ставни редко-редко пробивался наружу неосторожный луч света. Тяжёлые щеколды с пудовыми замками запирали лавки: прекратилась торговля, закрыли свои мастерские ремесленники, опустели присутственные места. Даже на извозчичьей бирже, где постоянно толпились, судача не хуже старых баб, тифлисские «фаэтонщики», на этот раз было тихо и безлюдно. Растерянные хозяйки выглядывали из окон, тщетно пытаясь услышать привычные возгласы разбитных тулухчи: «Вадаа! Вадаа!». Воды в городе не было. Не было и жизни. Но ежедневно целые обозы с простыми, сколоченными из досок гробами угрюмо тянулись на кладбища, к поспешно вырытым за ночь неглубоким ямам.
На рассвете и закате над городом оглушительно гудел и медленно расплывался в воздухе колокольный звон, чтобы во всю ночь между звонами никто не смел показывать носа на улице. Арестанты Метехской крепости, облачённые в пропитанные дёгтем рубахи, возили по ночам покойников и бесщадно жгли на перекрёстках ворох оставшейся после них одежды. А сёстры милосердия из военного лазарета ходили по домам, опрыскивая их хлором. Ужас неотвратимой смерти повис в душном, наполненном густой мглою, гарью и смрадом воздухе. Отец, чтобы не заразиться, бежал от сына, сын – от отца.
За последние три десятилетия холера уже шесть раз совершала набеги на город, и он знал её свирепость и коварство. Экзарх Грузии срочно отслужил молебствие в Сионском соборе, прося Господа отвести от города мор, а посланцы экзарха отправились к самому подножию Арарата, покрытого вечными льдами, что спокон века лежат на вершине его, за целебной водой из священного источника. В церквах молились о спасении земли грузинской – удела пресвятой богородицы. Окропляя мирян святой водою, служители небесных сил, одетые во всё чёрное, служили ежедневную литургию, наставляя о том, что «Бог не без милости, что пошлёт он жизнь хорошую и спокойную. Молитесь, праведные, Господу милосердному – ведь мы к нему с земной печалью, а он, свет, к нам с небесной милостью. Для того и не могите вы унывать и отчаиваться, ибо на каждого человека Бог по силе его крест налагает. Духом бодритесь, люди добрые, на Христа уповайте… Христос от нас, грешных, одной ведь только милости требует и только на неё милости свои посылает… Все пошлёт он, милосердный».
Прихожане, до того замершие в благоговении между утонувшими в дыму фимиама древними каменными колоннами храма, нынче усердно клали поклоны, молились и целовали крест, а высохшие губы их шептали «Господи, спаси и сохрани!» Со стен, укутанных таинственным полусветом, на людей строго и печально взирали лики святых. Мерцающие языки пламени свечей отражались в золоте подсвечников, на окладах и ризах, стройные голоса певчих, печально тянувших «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-илу-уй…», сливались, колыхались, взмывали к черным сводам храма, смешиваясь со сладковатым благоуханием ладана, и тьма отступала, хоть и ненадолго, бледные лица хористов были удлинённые и строгие, а голоса чистые и сильные. Изредка хор замолкал, уступая свое место пению священника…
Казалось, ещё недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов и всюду раздавались стоны раненых: шла беспрерывная война с полудикими горцами, совершавшими набеги на мирных жителей из недр своих недоступных гор. Во главе горцев стоял Шамиль, одним движением глаз рассылавший тысячи своих джигитов в христианские селения. Сколько горя, слёз и разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестёр и матерей тогда было в Грузии, чьи тихие, зелёные долины плакали кровавыми слезами. Но с появлением русских прекратились набеги, скрылись враги, и обессиленная войною страна вздохнула свободно. А тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая погибель обрушилась на Грузию.
Петербург, сидя в своём гранитном великолепии, трепетал. Ведомства звенели, как стекло, от паники: из-за Кавказа, словно зловещая тень, надвигались вести – пугающие, неясные, как туман над Невою. В ответ, будто бросая кость осаждённому городу, чиновники пообещали прислать врачей – не позднее, чем через две недели, если штормы на Каспии позволят. А пока – стройте, мол, холерные бараки, да погуще! Приказ был суров и сух: «Срочно. Без разговоров. За неисполнение – под суд».
И бараки – зловещие, сколоченные в спешке хибары, где доска не к доске, а страх к страху – полезли, как гнойники, по окраинам Тифлиса. Карантинные кордоны обложили дороги: часовые с ружьями, лица закутаны, словно разбойники. В выгребные ямы – хлорная вода, хлорная совесть, хлорное благоразумие. Город как будто стал дезинфицировать самого себя – с кожей, мясом и душой.
И тут же по улицам, как бешеная свора псов, побежали слухи. Один страшнее другого. Что, дескать, сверху велено – морить простой люд, дабы осталось меньше едоков. Что врачи – вовсе не лекари, а палачи в белом: сыплют в колодцы порошки, травят, как крыс. Что хватают здоровых прямо на улицах крючьями, будто падаль, и в бараки – там живьём известью посыпают, а после – в яму, без отпевания, без имени. А еще – вода, вода! Кура отравлена!
И вот уж народ стал бояться и хлеба, и воды. О, Кура! Вековечная, могучая, вечно текущая! Она веками несла свои бирюзовые воды, рассекая утёсы, кормя поля, напояящая царей, крестьян, поэтов, любовников… Куру славили в песнях, как мать, как богиню. Спроси у древних – и те сложат тебе гимн в её честь. Не приведи Господь ей исчезнуть – и пересохнет сердце Грузии. Но теперь – по Куре ползёт подозрение, как плёнка гнили: будто бы сама она стала вестницей гибели.
В народе началось смятение. Кто поумней – шептал, глядя исподлобья: – А не от лукавого ли всё это? Кто погорячее – кричал: – Холера – от Бога. И лечить её не надобно! Надобно молиться, поститься, каяться. А эти… костоправы!.. Им всё едино – что Бог, что выгребная яма.
А город клокотал. Гнев и страх, как два брата, варились в одной кастрюле. Люди, лишённые свободы передвижения, словно звери в клетке, начали выходить на улицы. Всё чаще говорили: вот-вот пойдут холерные бунты. Больницы сожгут, врачей – в Куру. Костоправов, фельдшеров, аптекарей, чиновников – всех под нож, под топор. Петербург же, не веря в силу молитвы, был готов послать войска – для умиротворения и «профилактики народной горячности».
Тем временем богачи – те, кто мог – не ждали чуда. Они бежали. Бросали дома, сани, балдахины, гувернанток и котов. Добро своё – сундуки, золото-серебро, священные книги, французские кресла и турецкие кальяны – всё это спешно тащили в храмы. Могнинская, Петхаинская, Джиграшенская, Майданская церкви – все были завалены сундуками, узлами, скарбом: как накануне потопа.
Священники – те, кто ещё вчера проповедовал терпение и смирение, – бежали вслед за своими прихожанами. Куда? Кто знает. Только звонари, бледные и молчаливые, остались в храмах. Они не уходили со своих колоколен, словно привязанные. Ветер трепал их рясы. Колокола – медные, тусклые, истёртые – молчали, пока не придёт час ударить тревогу.
И город, некогда певучий, пестрый, как восточный базар, стал похож на прифронтовую зону, где не слышно ни плача, ни смеха, ни жизни. Осталась только Кура – полная, холодная, равнодушная. Она текла, как всегда, не ведая, что в её воде теперь ищут отраву.
* * *
Нина Александровна решительно отказалась оставить свой дом, хоть и сулили ей спасение в Кутаисе, куда мор ещё не ступил своей чёрной подошвой. Осталась – не для спасения, а ради долга и сострадания. Осталась с верной служанкой, чтоб быть рядом с Маквалой, близкой подругой, у которой в одночасье, будто вихрь ворвался в дом, холера вырвала из жизни здорового, статного Зураба – да упокоит его Господь. Наутро же, словно беда решила добить, зловещие признаки болезни явились и у единственного ребёнка покойного – малютки Мзии, едва начавшей говорить.
Обезумев от страха, мать отпаивала девочку кипячёным нашатырём, вываренным в медном котелке, точно зельем из колдовской книги. Но бедняжке становилось всё хуже. Тогда Нина Александровна, не медля, поспешила в дом подруги, как воин на поле брани. Приказала вымыть полы горячей водой с крепким щёлоком, окурила одежду покойника колким дымом можжевельника, сама растерла девочку винным уксусом, вложила в пересохший рот настой мяты, поставила горчичники – будто вызовом смерть бросала.
А на следующий день её ждал новый бой – в доме вдового соседа, аптекаря Гольдмана. Ещё бабушка её знала этого человека, сутулого, с горбатой спиной и длинными еврейскими пальцами. Нина отхаживала его приёмного сына, бледного, обмякшего, с запавшими глазами. Обернула его мокрой простынёй, укутала в одеяло, дала выпить потогонное с каплей белой нефти – средство отчаянное, но действенное. Сам аптекарь, забыв о шаббате, теперь суетился, сбиваясь с ног, хватался за пузырьки и баночки, смотрел поверх очков, и всё бормотал:
– Зверобой… да, может, рижской водки на ночь?.. Госпожа Грибоедова, может, промывательное поставить, чтоб нечистоту изгнать?..
К вечеру мальчик порозовел, затих и уснул. Тогда Нина поднялась.
– Если станет хуже – немедленно посылайте за мной, – тихо сказала она, берясь за ручку.
Аптекарь сложил руки на грудь, словно в молитве, и прошептал:
– Как вас благодарить, не ведаю… Всю жизнь молиться за вас буду…
Дома её ждала Маквала. С порога кинулась к ней:
– Нина! Мзиечка… она улыбается! Сегодня пела… тихо, едва слышно…
Женщины обнялись. От прежней, полной жизнью Маквалы остались только глаза: всё прочее в ней высохло, как трава в августовскую жару. Лицо пожелтело, волосы стали пепельными, спина сгорбилась. Но в её взгляде теплилась последняя искра.
– Хорошо… – прошептала Нина. – А я… я, пожалуй, прилягу. Что-то нехорошо… кружится… слабость…
Маквала насторожилась: в чертах подруги проступило что-то недоброе – стеклянный блеск глаз, желтизна у рта, тот самый смертный холод.
– Господи, неужто и ты?.. – выдохнула она.
– Пустяки… – ответила Нина и села на тахту.
Но тело отказывалось повиноваться. Всё внутри онемело, сердце билось, будто из последних сил, в ушах стоял звон, в голове – туман. Казалось, будто кровь остановилась в жилах.
Маквала схватила её за руку – ледяная, едва прощупывался пульс. Принесла тёплое камфарное масло, стала растирать ладони, плечи, грудь. Нина чуть приоткрыла глаза, прошептала:
– Не надо… Пить… Хочу пить… Я посплю…
Она выпила воды, закрыла глаза. Маквала села рядом, боясь шелохнуться. Рвоты не было. Судорог – тоже. Сердце подсказывало: может, пронесёт…
Маквала подошла к распахнутому окну. Над городом нависло тяжёлое, недвижное небо – цвета грязного олова, глухое, как закрытая крышка гроба. В воздухе стоял сырой запах извести и карболки. Где-то скрипели двери, и эхом отзывались колокола, звеневшие за упокой – нерадостно, мучительно, будто плакали не о прошлом, а о будущем.
По улице, спотыкаясь, брела кляча, волоча телегу с некрашенным гробом, за телегой плелась понурая фигура мужчины в драной чохе. Он шёл, не опуская взгляда, как будто провожал сам себя.
На миг Маквале показалось, что впереди процессии, по булыжной мостовой, ступает не человек, а тень – высокая, сухая, закутанная в бесформенную, длинную, чёрную как деготь накидку с капюшоном. Из-под капюшона торчал хищный нос, ввалившиеся щеки и мертвенный овал подбородка. «Холера…» – шепнул разум, и сердце её заколотилось, как птица в ловушке.
Она отпрянула, но тут же снова придвинулась к окну, будто проверяя – сон это или явь.
Женщина – или то, что приняло её образ – медленно шла по мостовой, в руке у неё была плошка, и она окропляла ею встречных редкой, чёрной, как застоявшаяся кровь, водой. Словно метила. Словно крестила для смерти. И каждый, кого она касалась, становился тише, тусклее, невидимее.
Затем она подняла голову. Маквала вскрикнула – но крик застрял в груди: у женщины были глаза, каких не бывает у людей. Жёлтые. Совсем. Не только зрачки, но и белки. Точно светили из преисподней, не мигая, не отпуская. Они смотрели на Маквалу прямо, точно знали её имя, её грехи, её мысли. В этом взгляде не было ненависти – была лишь пустота, равнодушие, как у самой смерти.
Маквала отшатнулась, зажала рот ладонью – но видение уже исчезло. Тень растаяла, как пар в вечернем воздухе.
В ту же минуту с тахты донеслось еле слышное:
– Пить…
Маквала кинулась к подруге.
Нина лежала неподвижно. На впалых щеках выступили сухие, будто крашеные, багровые пятна. Над глазами – припухлости, налитые тьмой. Казалось, под веками не было глаз, лишь тяжёлые камни. Дыхание было не слышно.
Но Нина не спала и не умерла. Просто она ушла внутрь себя, туда, где ещё теплилась мысль, тонкая, как родник под снегом. Мысль текла, прерываясь, как капли со скалы – то исчезала, то вдруг разливалась говорливо, с той ясностью, какая бывает перед концом. Жизнь медленно размыкалась – но не сдавалась.
И тогда, издалека, из самого сердца тьмы, ей почудился голос. Он не звал – он вспоминал, любовно, неторопливо:
– Нина… ангел мой… Где ты, сокровище моё?..
Глава 2
В тифлисских садах, робко, будто стесняясь, уже бледно розовел миндаль, и персик воскрешал из веток первую дымку цвета. А над всем этим парили голые тополя, высокие, устремлённые к небу, точно тоскующие по утраченной листве. Зима 1816 года, угрюмая и долгая, не сдавалась: держала город в скупом дыхании, отступая нехотя. Весна ещё только собиралась с силами, будто сомневаясь – стоит ли возвращаться. Но в последние дни Тифлис, изнемождённый стужей, выпрямился навстречу солнцу и – замирал, подставив лицо его скромному теплу. Нежился.
Кура, мутная и полноводная, шагнула через ортачальские дамбы, вздулась, как от обиды, и пошла, куда хотела: катила хворост, гнилую солому, дерн и навоз – весенняя ярость в теле великой кормящей реки. Она заливала прибрежные огороды, входила в подвалы, стучалась в дома – но не злилась, а жила. По затопленным берегам, словно вброд по своему детству, бродили карачохели – крепкие, обнажённые по пояс, с мокрыми сетями и тугой надеждой на обильную добычу. Эти сыновья реки не верили в случай – только в время. И когда приходил час, они бросали на стол виночерпиям и поварам живую, серебряную, дрожащую рыбу – цоцхали, неостывшую от воды. Их песня – беспечная, с переливами и подвываниями, как сама Кура – плыла над рекой, перепрыгивала на другой берег, где уже начинались другие судьбы.
Никто из них тогда не знал – ни певцы, ни слушатели, – что в тот самый день, в доме Чавчавадзе, сквозь боль и кровь, через предвечный женский страх и лик торжества, родится дочь, которой суждено будет стать царицей Мегрелии и фрейлиной императорского двора.
Там, в высоком доме над садом, среди узорчатых стен, уже много часов стояла глухая тишина, прерываемая только шагами, приглушёнными голосами, скрипом пола. За перегородкой – Саломэ Орбелиани, жена князя Александра Чавчавадзе, боролась и ждала.
Сам князь сидел у камина, не двигаясь, будто время застыло на его плечах. Он не молился – просто ждал. И не мог думать ни о чём, кроме одного. Мысли подходили, толпились, не находили выхода и, тяжёлые, ложились ему на грудь. Взгляд – прямой, но мутный от напряжения. Лоб – высокий, мыслящий. Усы – холёные, с щегольским завитком. Он был одет в европейский сюртук, но сидел, как горец – спина прямая, рука на колене, тишина в каждом жесте. Из окна на его чёрные волосы падал свет, и в этом свете он казался моложе, чем был.
Возле него, прижавшись, сидела четырёхлетняя Нина – черноглазая девочка с тонкими руками и сбившимися кудрями. В кружевных панталончиках, с босыми щиколотками, она молчала и смотрела на отца. Она чувствовала что-то – возможно, тревогу, возможно, судьбу. Смотрела – и тихо гладила кисть отцовской руки – как будто могла этим успокоить.
В зале, обставленной со вкусом, по-барски щедро, стояла тишина такая, что и муха, будь она, слышалась бы. Огонь в камине не просто грел, а жил своей жизнью: потрескивал, как старик в размышлениях, и подмигивал весёлым пламенем в золочёные рамы зеркал и картин. Танец свечей в бронзовых подсвечниках бросал на стены зыбкие отблески, будто кто-то в задумчивости водил кистью по воздуху. Всё здесь дышало покоем, уютом, даже негой какой-то домашней, ласковой.
Но вдруг – будто нож по ткани – раздался из спальни крик. Женский, острый, не от страха, а от боли, той, что жизнь в жизнь переводит. Александр встрепенулся, вскочил, бросился к двери, но остановился на пороге: как бы не спугнуть, не помешать. Ещё шаг – и в дверях появилась старая повитуха, сухая, как мандариновая косточка, но надёжная, как ключ от амбара.
– Ну, как она? – спросил князь по-грузински, быстро, тревожно.
– Всё, как надобно, батоно, не волнуйтесь. Вы лучше к себе ступайте, водички выпейте, да прилягте. Я сама приду, как будет, – отвечала она, кланяясь чуть ли не до земли, и говорила спокойно, с тем тоном, каким говорят люди, много повидавшие и потому уже ничему не дивящиеся.
Александр не пошёл никуда. Он только отступил назад и опять сел к камину. Лицо у него – белое, точно выструганное из кости, губы сжаты, лоб высок, просветлён. В глазах – и тревога, и огонь, и та внутренняя зоркость, что не даст растеряться в час испытаний. Он смотрел в пламя, будто в нём хотел угадать, чем обернётся этот крик за стеной – слезой или счастьем.
Доктора, русского, всё не было, и это мучило. Он был нужен, а его всё не везли.
Сквозь приоткрытое окно проникал весенний воздух – с дымком, с сыростью, с чем-то родным. До слуха доносился тупой топот – где-то проехал фаэтон. А откуда-то, из глубоких глубин памяти, поднимался голос отца, его старинный рассказ – о детстве, о войнах, о деревьях, что сажал когда-то на далёком родовом склоне. Всё это всплывало сейчас, живое, будто пришло поддержать его в сей решительный час.
* * *
В то утро, как заря, ещё толком не разгоревшись, поднялась над Невой, площадь у собора Святого Исаакия была уже вся, как поле подсолнухов в солнечный день, утыкана людом: кто на ножках, кто на козлах, кто с локтями, кто с глазами – все чего-то ждали. Только посреди оставлена была узкая полоса, как речка среди камышей, – для проезда.
Экипажи стояли чинно, в ряд, как на смотре. И вот подкатил один, с гербом и сверканием латунных колёс, и отворилась дверца. Вышла из него, будто не ногами ступала, а по воздуху скользила, сама Екатерина Алексеевна, Императрица, Великая и державная. На плечах у неё горностай белейший, волосы, словно из сахарной пудры, увенчаны диадемой, а брови – чёрные, нарисованные, глядели строго, как гвардейцы на параде. Толпа, как трава под косою, разом пала в пояс. А она – улыбнулась. Не холодно, не свысока, а будто бы с прищуром довольной хозяйки, которой приятно, что всё идёт, как заведено. Поклоны ей нравились – иные, чем эти немецкие кривляния и подскоки, – она в них русскую покорность почитала.
А отец его, князь Гарсеван Чавчавадзе, стоял тут же, как штык. Представитель царя Ираклия, полномочный министр при Российском Дворе, выправка у него – кавалерийская, глаза – чёрные, в них блеск и честь. Протянула государыня ему руку – он, как положено, преклонился и приложился. Глянула она на него – и глазом не повела, но в лице что-то мягкое мелькнуло: ох, знала она толк в породе и стать любила.
В храме уже стояла, как полагается, купель – водичка тёплая, как утренний пар над озером, свечи горят, воздух с ладаном перемешан. Князь держит на руках младенца, голенького, розового, как весеннее яблочко, – крепкий мальчуган, глазки жмурит, головку на локоть кладёт. А на боковом столике – рубашонка с вышитым вензелем и крестик золотой, сияет, как солнышко в воде. Это – подарок матушки-государыни, знак особой милости: крестной матерью сама изволила быть. Не каждому такое выпадает, а только тем, кто за веру и службу доказал, что достоин.
А ведь доказал: в том самом, 1783 году, князь Гарсеван с царского слова подписал Георгиевский трактат – обережный союз между Россией и Грузией, когда уже на Иверию волки со всех сторон надвигались, и внутреннего разлада было хоть отбавляй. Тогда же и приняли под сень русского орла.
Наконец святое таинство крещения свершилось: младенца окропили святой водой, имя дали – Александр. Не просто человек народился, а христианин, раб Божий, чадо крещёное, под покровом небесным. Императрица с князем распили по хрустальному бокалу шампанского – за здравие и долгий путь. Потом села матушка-государыня в свою коляску и уехала во дворец, оставив после себя в воздухе лёгкий шлейф французских духов и светлое ощущение великого дня.
До тринадцати лет жил он в Северной Пальмире – среди строгих фасадов и светлых проспектов, под звон колоколов Петропавловской крепости, под сенью живого портрета Екатерины Великой, чьей крестницей была сама его судьба. Но затем – словно повернулось колесо Фортуны – семья переселилась в Тифлис, где солнце палит ярче, а улицы пахнут базарной пылью и острым дымом топившихся тагаров.
Уже тогда тринадцатилетний мальчик воспринимал мир глубоко и остро, но был еще слишком молод для философских обобщений, и поэтому холодное, почти враждебное отношение многих единоземцев к собственному отцу воспринимал с горечью и душевной болью. Противники воссоединения Грузии с Россией прозвали Гарсевана Чавчавадзе неверным сыном отечества. Эти слова чёрной тенью легли на всю жизнь поэта. Временами, теряя голову в отчаянии, Александр готов был считать себя обязанным «искупить вину» отца, убежденного в том, что, выполняя приказ царя Ираклия II, он спасает родину от физического и духовного уничтожения. Так, в 1804 году, восемнадцатилетним юношей, он свернул с отцовской дороги и, бежав из родительского дома, примкнул к антирусскому восстанию горцев в Мтиулети, которое возглавил царевич Парнаваз с целью отделения Грузии и восстановления блистательной династии Багратионов. Но что из этого вышло? Плен, следствие секретной комиссии для открытия виновников возмущения, ссылка под строгим конвоем непокорного русской короне патриота в Тамбов, на долгих три года, с тем чтобы по истечении сего срока, возобновя присягу на верность, явился он сюда на службу и, загладив добрым поведением проступок свой, мог приобрести в оной новые выгоды. Туда же, в Тамбов, был принужден переехать на жительство и отец его, действительный статский советник князь Гарсеван, словно надеясь своим присутствием сдержать его вновь, удержать от нового безрассудства.
Однако юность, как ветер в горах – бушует, но проходит. И Александра вскорости простили: учли и прежние заслуги его рода, и горячность лет. Государь повелел определить его в Пажеский корпус – учебное заведение для отпрысков знатных семей, где он не только обрёл военное звание подпоручика лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, но и получил настоящее образование, глубокое, европейского образца. Французский, немецкий, персидский – языки стали ему родными. Там же он впервые соприкоснулся с идеями нового века, с литературой, с историей, с философией – и многое переосмыслил.
Он понял, что не сабля восстанавливает Отечество, не крик толпы, не кровь братьев. Он, грузинский аристократ с русским воспитанием и европейским кругозором, стал тем, кто сумел примирить в себе Восток и Запад, старое и новое, меч и перо. Разве не он одним из первых перевёл на грузинский язык вольнодумные стихи Пушкина? Да, в тот период он, молодой грузинский аристократ, уже полностью разделял освободительные идеи своего века, революционный дух которых так глубоко проник в среду передового русского офицерства. А спустя несколько лет, в 1811 году, он вернулся на родину уже не мятежником, но офицером русской службы, адъютантом при главнокомандующем – маркизе Паулуччи. Вернулся прощённый, с открытым лицом и чистой совестью, к дому, где его ждали жена Саломе и маленькая дочь Нино. И теперь, среди листвы и камней Тифлисского сада, он ожидал рождения второго ребёнка – не с тревогой, как в юности, а с благоговением перед новой жизнью, которую должен был защитить и воспитать уже не мятежник – но отец.
Ровно два года минуло с того великого дня – 18 марта 1814 года, когда русская армия под началом старого, непреклонного Барклая ступила, наконец, на французскую землю. Париж, грозный Париж, столица мира и войны, встретил победителей не выстрелами, не проклятиями – но тишиной. Серый, тяжёлый туман висел над улицами, как саван, и казалось, что город умер, укрывшись в своих каменных гробницах.
Колонны русских полков, запорошенные пылью и порохом, проходили молча, не оборачиваясь, по пустым улицам Сент-Антуанского предместья, где ещё недавно кипела буржуазная жизнь. Скрип колес, гул пушек, рёв команд, рассекавших сырой воздух, – и над всем этим покровом звенела только поступь истории. А потом, как это всегда бывает: город ожил. Из подворотен, из подвалов, из закоулков высыпали французы – мальчишки с тонкими лицами, женщины в чепцах, старики, пахнущие табаком и революцией. Кто-то крестился, кто-то молчал, кто-то смотрел с горечью, кто-то с любопытством.
Среди тех, кто въехал в Париж верхом, был и он – князь Александр Чавчавадзе, двадцатишестилетний адъютант главнокомандующего, сухощавый, высокий, с восточной осанкой и русской выправкой, с лицом, будто вырезанным из бронзы. Его французский был безукоризненен, как у аббата; его манеры – несомненно парижские; но в сердце его звучала флейта Кахетии, и глаза его видели сквозь камни Парижа родные виноградники Цинандали.
Кампания 1813–1814 годов стала для него и школой, и пьедесталом. Он отличился – не единожды: в атаке, под огнём, в штабе при разработке диспозиций. За это был награждён щедро и по чести: орден Святой Анны второй степени, прусская золотая сабля с чеканкой «За отвагу», и даже – редкость невиданная – французский орден Почётного легиона, которым французы неохотно жалуют даже своих. Всё это не вскружило ему голову: честь и слава были для него не целью, а инструментом, как лезвие шашки или перо.
Но судьба, как всегда, напомнила о себе. В самый разгар победы дала о себе знать старая, не до конца зажившая рана – след пули, полученной им в юности, при подавлении кахетинского заговора, когда он ещё только учился быть офицером, а кровь в жилах кипела сильнее устава. Рана разошлась. Врачи велели покинуть ряды армии. И он, с болью, но без ропота, вернулся на родину, уже в чине ротмистра, с назначением командовать Нижегородским кавалерийским полком, стоявшим недалеко от его родных мест, среди виноградных склонов, где воздух пах не порохом, но земляникой и солнцем.
И вот теперь, весна на дворе. Но весна не такая, как хотелось бы – серая, холодная, неприветливая. Тучи тянут низко, по вечерам туман висит над Алазани, как старый платок, забытый на ветках. Александр сидит в своём доме, у камина, один, греет руки у огня, прислушивается к потрескиванию виноградной лозы в очаге. И думает. Не о сражениях – те позади. Не о наградах – те в ящике, под замком. А о сыне. Ну, какой грузин не мечтает о наследнике? Не о том, кто станет продолжением его – в теле, в имени, в крови. Кто пройдёт по тем же тропам, но с меньшими ранами. Кто будет носить саблю – и перо. Кто однажды, может быть, тоже войдёт в Париж – или в историю.
Тяжкий стон жены прервал мысли Александра. Он вздрогнул, не сразу понял, откуда звук, – и лишь потом, понурив голову, встал и застыл у камина, вслушиваясь в себя, в ночь, в жену. Ему чудился её голос – не голос даже, а дыхание, рваное, в клоках, сдерживаемое – то срывающееся в вскрик, то уходящее в глухой шепот. Он представлял, как она, бледная, с вытертым до синевы лбом, с иссохшими губами, вцепляется в скомканную простыню, задыхается, давится криком, а потом с немым отчаянием хватает за руку доктора, словно за спасительный шест в бушующем море, и смотрит на него умоляюще, как обречённый – на судью.
Опять наступила тишина. Зловещая, натянутая, вязкая. Князь поднялся, охваченный странным холодом, и пошёл к двери. Постоял. Приложил ухо.
– Сейчас, сейчас, княгиня… – доносился спокойный, чуть охрипший голос русского доктора, крепкого пожилого человека с уставшими глазами и щетинистой бородой, которую он привычно теребил в минуты напряжения. – Потерпите. Молите Бога, чтобы наставил вас Своим духом… Уже почти… Ещё немного, голубушка моя. Дышите глубоко, как я вам говорил…
– Я не могу… – прошептала она.
– Вы можете. Надо. Господь не посылает больше, чем человек способен вынести.
За окном ветер переменился. Тот, что с Куры, – тёплый, пахнущий камышом и тиной, – сник, и на его место пришёл северный, ломовой, сырой. Он гнал тяжёлые тучи по ночному небу, и с них сперва потёк мелкий дождик, как из решета, потом вдруг повалил мокрый снег. Грузины говорят о таком: «молодой снег за старым пришёл». Он, ленивый, почти равнодушный, кружился над крышами, стелился пластом на лошадиные гривы, на плечи зазевавшихся прохожих, ложился на крыши и темнеющие луга. А над всем этим – небо, пустое, будто забытое Богом, и только две звезды робко пробивались сквозь мглу, как два живых глаза на мёртвом лице.