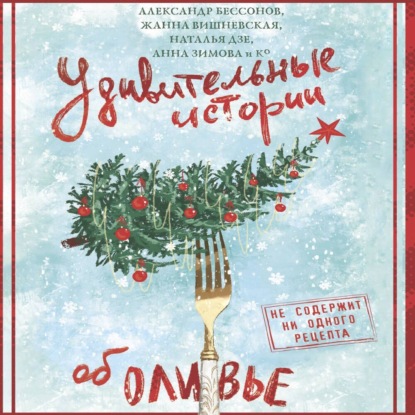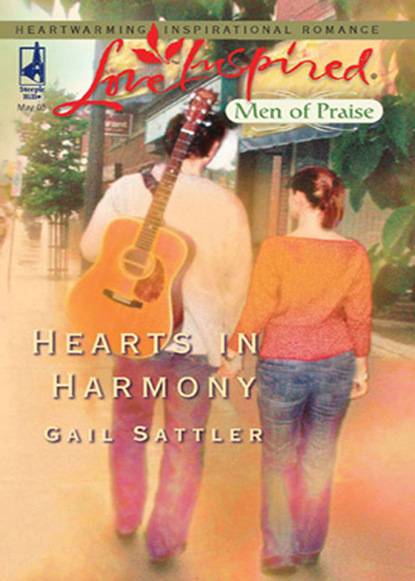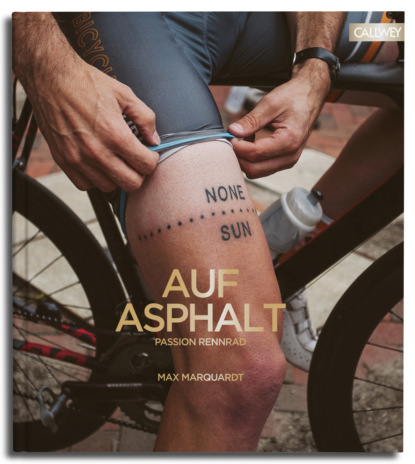Удивительные истории о соседях

- -
- 100%
- +

© Авторы, текст, 2026
© Е. Адушева, составление, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026
Дизайн обложки: Юлия Межова
В оформлении обложки использована иллюстрация Юлии Межовой

Дарья Бобылёва
Соль земли
На третьем этаже кирпичного углового дома, который одним боком примыкал к дому с мозаикой на фасаде, а другим – к дому с аркой, жил одинокий Лев Вениаминович. Казалось, что всегда он был немолод, всегда заворачивал длинные жидковатые волосы в «гульку» на затылке и носил шерстяной берет. Мы из года в год не могли понять, чем же он зарабатывает себе на жизнь: Лев Вениаминович то строчил, ночами в тетрадях, а потом их выбрасывал, то уезжал на конференцию в Пермь, то целыми неделями не выходил из дома, все время посвящая чтению книг и, очевидно, размышлениям. Поэтому решено было считать его философом. В холодильнике у него обычно хранились огурец, несколько сморщенных сосисок и крутое яйцо, оставшееся после поездки в Пермь, но Льву Вениаминовичу хватало. Был он, как многие ему подобные созерцатели с «гулькой» под беретом, бессребреником и аскетом и питаться мог буквально святым духом, заедая его огурцом.
Лев Вениаминович жил в своей трехкомнатной квартире-«распашонке» (торцевая, высокие потолки и скрипучий паркет, плесень в ванной) в одиночестве. И никто толком не помнил, откуда он там взялся. Он как будто завелся самостоятельно, как плесень в ванной, и постепенно оброс холостяцким имуществом, завидной библиотекой и огромным количеством бумаг.
Лев Вениаминович всегда был холост и перспективу совместного бытия с другим существом, будь то женщина или, скажем, волнистый попугай, всерьез не рассматривал. Стоит отметить, что одно время рассматривали его самого: в том же подъезде, на седьмом этаже, обитало многочисленное, исключительно женское семейство. Подсчитать точное количество составляющих его сестер, племянниц и дочерей было трудно – как, впрочем, и понять, как они все умещаются в своей «трешке». Все они были друг на друга похожи, особенно глазами – удлиненными, прохладно-зеленоватыми, – все обладали на редкость звонким смехом и гадали на картах. А еще ходили слухи, что они умеют всякое делать – след вынимать, на ветер шептать, зубы заговаривать и даже – о чем в разговорах обычно сообщалось уже совсем беззвучно, одними губами, – возвращать загулявших мужей.
Имена у гадалок были странные – к примеру, старшую, вроде как главную у них, звали Авигея, а внучек ее, которые тогда еще в школу бегали, – Пистимея, Пелагея и Алфея. Учителя поначалу переспрашивали и недоуменно пожимали плечами: разве так сейчас называют? Во дворе гадалок недолюбливали, но у них не было отбоя от желающих узнать – а если слухи верны, то и подправить, – свою судьбу. Причем эти, как полагали соседи, шарлатанки так задурили людям головы, что к ним приходили с дарами, а иногда и с деньгами в конверте. Гадалки, кажется, никаких иных источников дохода не имели, но не бедствовали и врали так умело, что их предсказания регулярно сбывались.
Так вот, гадалки пытались в свое время взять Льва Вениаминовича в оборот, но ничего не вышло. Он как будто не понял, чего они от него хотят, зачем хихикают при встрече, стреляют русалочьими глазами и угощают эклерами на 23 февраля. Философ с «гулькой» оказался так девственно-наивен, что впечатленное семейство перестало обхаживать его как перспективного мужчину, но продолжило по-дружески опекать, подкармливать по праздникам и интересоваться его здоровьем.
А здоровье Льва Вениаминовича, как и положено, с годами сдавало. Возможно, теперь-то он уже и не был бы против деятельного присутствия в доме какой-нибудь из гадалок, потому что с хозяйством он не справлялся, а слабеющее тело требовало комфорта. Вот только гадалками он был давно взвешен, измерен и найден ни на что не годным. А может, и сжалились они над ним, пощадили – кто их разберет.
Наконец Лев Вениаминович вышел на пенсию. Он старел и паршивел, «гулька» под беретом превратилась в совсем уж жалкий узелок, а дыхание от постоянного употребления в пищу сосисок и прочей дряни было несвежим. Плесень, единственная его спутница жизни, разъела стены в ванной и выползла в коридор. Заваленная бумагами квартира пропахла табаком и пылью, к тараканам, которые в нашем дворе водились у всех без исключения, добавились мельчайшие домашние муравьи и пауки, по ванной уже безо всякого стеснения ползали мокрицы. В бессонные ночи Лев Вениаминович слышал, как шуршат за книжными шкафами мыши. Он тщетно расставлял мышеловки, которые при утренних проверках хлопали его по пальцам. После очередной попытки поквитаться с грызунами Лев Вениаминович всякий раз ходил с синими ногтями, а мыши, будто в отместку, лезли вверх, на полки, и грызли книги еще усерднее.
Сил остановить этот медленный распад, привести дом в порядок у Льва Вениаминовича не было. В теплое время года он подолгу сидел на лавочке у подъезда, как будто не хотел возвращаться домой. Гадалки проходили мимо, здоровались и перешучивались с ним по привычке. Позже они сокрушались, что ни одной из них тогда не пришло в голову присмотреться и задуматься.
И вот однажды утром соседи почувствовали запах, источник которого определенно находился за дверью в холостяцкую нору Льва Вениаминовича. В ожидании скрипучего лифта, отказывавшегося перевозить детей и слишком легких женщин, жильцы поводили носами и удивлялись. Так крепко в подъезде не пахло даже после того, как сто тринадцатая квартира полностью выгорела изнутри за одну ночь, а пожарные обнаружили на пепелище два комплекта человеческих костей – и ни одного черепа.
Наконец соседка философа по лестничной площадке не выдержала и под благовидным предлогом – собралась варить суп, а в доме не оказалось лука – позвонила в его дверь. Заскрежетал замок, звякнула цепочка, и в щели возникло незнакомое старушечье лицо. Оно, казалось, состояло из одних морщин, многолетний деревенский загар и цепкие прозрачные глазки – такие еще называют лучистыми – делали его миловидным и каким-то неуловимо своим, родным… А от запаха, который густо разлился по лестничной клетке, сосало под ложечкой и слюна закипала во рту – из квартиры одинокого философа отчаянно тянуло свежей сдобой, мясом, соленьями, наваристыми щами, и даже кислый, в нос шибающий дух домашнего кваса в этом невыносимо аппетитном полотне ароматов тоже присутствовал.
– Кого бог послал? – не снимая цепочки, спросила старушка.
Изумленная соседка залепетала что-то про луковицу, и тут в прихожую вышел сам Лев Вениаминович, порозовевший и округлившийся, с лоснящимися после трапезы губами. Он открыл соседке дверь, пригласил ее, невзирая на вежливые отнекивания, в гостиную и даже попытался развлечь разговором на общие темы, пока старушка хлопотала на кухне. Говорил Лев Вениаминович длинно, витиевато и скучно, как все начитанные, но не избалованные общением люди. Соседка кивала, особенно не вникая – еще голова разболится, – и смотрела по сторонам. В комнате был порядок, на чисто подметенном полу – пестрый коврик, на столе – самовязанная скатерка, на подоконнике – герань. Все казалось не просто убранным и вычищенным, а прямо-таки отскобленным от грязи, даже побелевшим в тех местах, которые скоблили особенно рьяно. К ядреному запаху еды примешивался запах хозяйственного мыла, и в голове у соседки внезапно возникло и завертелось самое емкое определение, которым можно было бы сейчас описать квартиру Льва Вениаминовича: «бедненько, но чистенько».
Одинокий философ тем временем рассказывал, как ему повезло найти Агафью Трифоновну, ту самую старушку, которая сейчас дробно топотала за стеной. Ее сосватал ему в домоправительницы один из бывших коллег, хорошо осведомленный о неприспособленности Льва Вениаминовича к быту. Коллега нанял ее сиделкой к своей девяностолетней матушке, а та, едва Агафья Трифоновна заступила на работу, возьми да и умри. Не ехать же теперь пожилой женщине обратно в деревню, тем более что она гений, просто гений, и умеет абсолютно все: стирать, клеить обои, квасить капусту, разделывать мясо, а какие она печет пироги!
– Вот такие люди – они настоящие, – убеждал рассеянно кивающую соседку Лев Вениаминович, и голос его подрагивал от восторга. – На них все держится. Мы что! Не пашем, не сеем, к корове не знаем, с какого конца подойти. Зачем мы и нужны-то вообще? Вот вы, я вижу, женщина культурная, интеллигентная. – Соседка кивала, размышляя, не попросить ли листик красиво цветущей герани – или ее нельзя просить, можно только тайком отломить, а то не приживется?.. – Вас, извините, если в деревню отправить, в глушь куда-нибудь, – вы же пропадете. Вы же ничего не умеете, чтобы сами, чтобы, знаете, руками… А они на земле спокон веку, нутром ее чуют, это они народ, понимаете? Простой, настоящий народ…
Наконец вернулась Агафья Трифоновна. Она несла блюдо, накрытое тканой салфеткой, под салфеткой угадывался пышущий сдобным теплом пирог, а поверх нее лежала луковица в блестящей рыжей шелухе.
– Ой, что вы, не надо, заберите… – засмущалась, как полагается культурной женщине, соседка и быстро взяла луковицу.
– Дареное назад не берут, – с притворной строгостью ответила Агафья Трифоновна, поставила блюдо на стол и сдернула салфетку. Пирог оказался уже разрезанным, обильная начинка источала сытный мясной дух.
Соседка была из располневших красавиц и всю жизнь сидела на диетах, питаясь то гречкой, то капустным листом. Она и суп-то собиралась с этой луковицей варить овощной, перетертый в пюре по совету из журнала «Здоровье».
– С сольцой вкуснее. – Агафья Трифоновна сунула сухую крохотную ручку в карман передника, достала пузырек и от души сыпанула на пирог что-то неожиданно черное.
– Четверговая? – решила блеснуть знаниями о народной кулинарии соседка. Она смутно помнила, что и впрямь существует на свете черная соль, которую готовят как-то на редкость по-народному – запекают по четвергам в лапте с ржаным хлебом или вроде того.
– Земляная. От землицы все родится.
Соседка послушно откусила под внимательным взглядом Агафьи Трифоновны большой кусок пирога. Черная соль имела странный привкус и хрустела на зубах. И такое блаженное тепло сразу разлилось по телу, что соседке уже не хотелось никуда идти, не хотелось варить постный суп-пюре, эту еду для обмана желудка, а не для радости и насыщения, а хотелось сидеть тут, чувствовать, как тает во рту пирог, в котором тесто как облако, а мясо как первая дичь, что убил Адам для своей Евы, и слушать мудрые присказки настоящей, деревенской Агафьи Трифоновны…
С превеликим трудом заставив себя вернуться домой – ведь нужно было все-таки приготовить ужин, – соседка долго еще улыбалась какой-то тайной радости внутри себя, а дареный пирог съела целиком, не оставила супругу ни кусочка.
За зиму Агафья Трифоновна обжила неуютную квартиру одинокого философа. Повсюду появились занавесочки, скатерки, разноцветные горки подушек и лоскутные одеяла. Вместо табака в квартире едко пахло геранью, а курить Лев Вениаминович безропотно отправлялся на лестницу.
К весне Агафья Трифоновна выбралась на улицу и начала творить невиданное. Невиданное с тех времен, когда в окрестностях нашего двора еще торчали деревянные домики, а возле них возились в пыли куры. Трудясь в поте лица и не обращая внимания на любопытных, старушка вскопала в палисаднике у подъезда несколько грядок и устроила небольшой огород – зелень, картошка, морковь. Некоторые в нашем дворе никогда прежде не видели, как еда растет из земли, поэтому огород стал местом паломничества. Тех, кто хватал растения руками, бдительная Агафья Трифоновна гоняла и обливала водой из окна. Смотреть не возбранялось, а от помощи в прополке и рыхлении старушка неизменно отказывалась:
– Сама управлюсь. Земля труд любит.
Многие во дворе считали, что, даже если Агафье Трифоновне удастся взрастить на городском суглинке хоть какой-нибудь урожай, плоды ее трудов все равно окажутся несъедобными, если не хуже. Ведь наш двор со всех сторон окружен автомобильными дорогами, а окна приходится мыть несколько раз в год, потому что стекла быстро чернеют от выхлопов. Выше по реке – ТЭЦ, а еще чуть подальше – завод, машиностроительный или металлургический, мы точно так и не поняли. И овощи впитают в себя, точно губка, всю отраву, что носится в воздухе и содержится в почве, все соли тяжелых металлов, радиацию и пары фенола… В разговорах встречались и другие неясные и угрожающие сочетания слов, но мы запомнили только эти. И нам ужасно хотелось попробовать овощи Агафьи Трифоновны – проверить, не засияют ли они ядовито-зеленым светом, если их надкусить, и не запахнет ли гуашью. Именно гуашью, как утверждали взрослые и осторожные обитатели нашего двора, пахнет тихо убивающий человека фенол.
Но нам оставалось только мечтать, потому что Агафья Трифоновна ревностно охраняла свою делянку. Жильцы замечали ее в огороде даже по ночам – под рыжим светом уличного фонаря старушка посыпала чем-то землю, замахиваясь сухой натруженной ручкой, точно сеятель на знаменитой картине.
Лев Вениаминович еще выходил по старой памяти посидеть на лавочке у подъезда и узнать от соседей последние дворовые новости, но делал это все реже. Он заметно растолстел и страдал одышкой, на лоснящемся лице от любого движения выступал пот, и Лев Вениаминович, утирая его шерстяным беретом, бормотал: «Грехи наши тяжкие». Научился, как видно, от своей домоправительницы.
Всем, кто останавливался у лавочки, Лев Вениаминович рассказывал теперь об одном: о простом и настоящем человеке, на котором земля держится, об Агафье Трифоновне. По двору даже ходили слухи, что девственный философ влюбился, но те, кто их распускал, просто все не так поняли. Конечно, Лев Вениаминович любил Агафью Трифоновну, но платонически, преданно и бескорыстно, как верный пес – за еду.
– Драчёны, калья, крупеня, шанежки, покачаники, трясенец, кондюк, талалуй, – полуприкрыв глаза, перечислял он. – Мы и названия-то забыли. Консервы магазинные едим, синтетику носим, бензином дышим. Все искусственное. И сами мы искусственные, оторвались, землю забыли. Рассуждать горазды, а слова все пустые. А Агафья Трифоновна два слова скажет, и оба нужные, главные. Хлеб. Корова. Вот на чем все держится… Соль земли. – И Лев Вениаминович жадно сглатывал.
Без черной соли он уже ничего не ел, даже в чай порывался ее добавить. А потом перестал пить чай и перешел на домашний квас, который можно было солить сколько душе угодно. Вкусная, с земляным привкусом соль хрустела на зубах, за столом напротив сидела Агафья Трифоновна, умостив подбородок на умильно сложенные кулачки. И по всему телу разливалось спокойное счастье. Лев Вениаминович наконец-то был уверен, что живет правильно, не впустую, и для этого ему больше не нужны были ни книги, ни бесплодные умствования. Только бы ощущался во рту привкус черной соли и хлопотала бы где-то рядом Агафья Трифоновна, кормилица.
– Вовек с ней не расплачусь, – вздыхал он потом на лавочке. – Стыдно. И в городе жить стыдно. Деревня нас кормит, трудится, землей живет. А мы только небо коптим и лишнее выдумываем. Машины, рестораны, женщины раскрашенные… Для жизни-то малое нужно. У нас вон ребятишки не знают, как хлеб растет, не видели никогда. Огород им и то в диковинку. А настоящий человек – он труженик. И пашет, и сеет, и свинью заколет, и теленка у коровы примет. Вот это – человек. А мы кто? Стыдно…
И случайному собеседнику действительно становилось стыдно за то, что он горожанин, за то, что ему в целом нравится все городское и лишнее, что он даже, наверное, любит все эти многоэтажные человечьи ульи и пыльные тополя, гул метро и звон трамваев, хочет принимать горячий душ в кафельной ванной и гулять с раскрашенными женщинами по улице Горького. А справной избы и коровы, а лучше двух, которыми жаждет снабдить каждого праздного горожанина Лев Вениаминович, не хочет вовсе. И при мысли о сельской жизни ему первым делом представляется крепкий дух разнообразного навоза. Но всякий горожанин привык безропотно отступать перед признанной деревенской правдой, поэтому собеседник не возражал Льву Вениаминовичу и только поглядывал по сторонам, надеясь побыстрее ускользнуть.
Здоровье Льва Вениаминовича продолжало сдавать. К привычным уже высокому давлению и одышке прибавилась новая напасть: то ли от изобилия покачаников с шанежками, то ли от возраста на него стало временами накатывать какое-то странное, трудноописуемое состояние. Чаще всего это случалось после обеда, когда он ложился на часок подремать и переварить яства Агафьи Трифоновны.
Он как будто застревал на границе сна и бодрствования: понимал, что он лежит на диване у себя в спальне, ощущал чуть шероховатую ткань наволочки на руках, сложенных по детской привычке под подушкой. Но вместе с ним в спальне словно был кто-то еще: смутные тени скользили вокруг, склонялись над диваном, что-то неразборчиво шептали. Лев Вениаминович чувствовал, что надо как-то отреагировать, ответить им, но тело отказывалось слушаться. Он не мог ни поднять голову, ни взглянуть на тех, кто ходит по комнате, даже его голосовые связки, казалось, спали крепким сном. Наконец после долгих отчаянных усилий Льву Вениаминовичу удавалось издать свистящий бессловесный шепот – и он просыпался. В комнате никого не было, на кухне гремела посудой Агафья Трифоновна, в онемевших во сне ногах перекатывались первые иголочки судорожной щекотки.
Лев Вениаминович, как обычно в подобных случаях, пролистал зеленый том «Популярной медицинской энциклопедии», но ничего похожего по симптомам не нашел. Потом позвонил знакомому врачу, выдающемуся специалисту по урологии. Тот успокоил и объяснил, что это называется состояние полусна или сонный паралич, а по комнате Льва Вениаминовича бродят самые обыкновенные галлюцинации. Состояние, конечно, малоизученное, но всякие шаманы, гипнотизеры и прочие жулики описывают именно его, когда рассказывают обо всяких астральных выходах из тела и путешествиях в страну духов. А чтобы пореже выходить из тела, надо его щадить: есть меньше тяжелой пищи, исключить жареное и острое, гулять на свежем воздухе и обтираться холодной водой.
Лев Вениаминович слушал его рекомендации, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой – крепко присоленный кусок курника. На пару секунд он задумался, глядя на курник и предвкушая хруст черных крупинок на зубах. Потом откусил, с полным ртом поблагодарил выдающегося специалиста и, пыхтя, побрел в ванную делать полезные обтирания.
В последний раз Лев Вениаминович спустился на лавочку в середине августа, чтобы понаблюдать, как Агафья Трифоновна снимает со своего огорода первый небольшой урожай. Одинокого философа трудно было узнать. Свое бочкообразное тело он нес с усилием, шумно выдыхая и поддерживая рукой спину, как женщина на сносях. Красное лицо лоснилось от пота, губы блестели, словно он только что поел жирного. Даже шерстяной беретик, который Лев Вениаминович носил круглогодично, как будто стал ему мал.
Мимо как раз шла Авигея, старшая из семейства гадалок, сухая и прямая, вся, в противоположность уютно округлой Агафье Трифоновне, состоявшая из костей и пергаментной тонкой кожи. Она носила столько тяжелых серебряных перстней – с какими-то змеями, орнаментами, звериными головами, – что пальцы не смыкались. Увидев отдувающегося Льва Вениаминовича, Авигея всплеснула руками, зазвенела кольцами и от дежурных «сколько лет, сколько зим» быстро перешла к осторожным советам, как снизить давление, уровень холестерина и вообще поправить здоровье.
– В таблетках отрава одна, – сказал Лев Вениаминович и недовольно икнул. – Всегда травами лечились. Даже собака, если болеет, травку нужную жует. А нас таблетками с детства пичкали, и глядите…
Он не справился с одышкой и откинулся на спинку лавочки, с умилением глядя на Агафью Трифоновну.
– Да вы хоть… вы… – Авигея, при всех ее странностях, была женщиной городской, обремененной знанием общедворового этикета, и советовать чужому человеку поменьше есть ей было неловко. – Вы и ешьте травки полезные, салат вот хорошо, морковку…
– Я разве баран, чтоб сено есть? Человеку надо есть плотно. Силы должны быть для работы. Это вы в городе диеты придумали от безделья. В деревне мужик встанет затемно, трудится не покладая рук, всё на нем. И потом салат жевать?
– Так вы же не в деревне! – звякнула кольцами удивленная гадалка.
– А может, это пока только. Может, скоро перееду.
Агафья Трифоновна возилась на грядках, поглядывала на них лучистым глазом. Тощая городская ведьма зыркнула в ее сторону, сплюнула – быстро и тихо, чтобы Лев Вениаминович не заметил, – и, кивнув на прощание, зашла в подъезд.
Поднявшись к себе на седьмой этаж, Авигея первым делом, не снимая туфель, раскинула на Льва Вениаминовича карты. Раз, другой. Выходило что-то смутное и, кажется, нехорошее. Остатний сон, ворота северные, виселица, сердце в чужих руках и польза для всех. Холодного гостя, впрочем, карты не обещали, да и польза для всех немного успокаивала. А как он разговаривал, как смотрел, вспомнила Авигея и нахмурила щипаные брови. Грубиян. Я вам не баран, говорит. Совсем о вежливости забыл, даже не улыбнулся ни разу…
И Авигея решительно смешала карты – не ее это дело, будь что будет.
Сонный паралич продолжал одолевать Льва Вениаминовича, и он, уже не боясь этого странного состояния и не выбиваясь из сил в попытках разбудить спящее тело, начал приглядываться к тому, чем наполнял комнату его наполовину бодрствующий мозг. Для этого он старался ложиться на спину, головой на горку заботливо взбитых Агафьей Трифоновной подушек, чтобы обеспечить себе наилучший обзор.
Сначала он стал замечать посторонние запахи. То вдруг веяло откуда-то, хотя окно было закрыто, скошенной травой. То лицо обволакивал запах застоявшейся воды, грязи, ряски, болота, и даже воздух как будто сгущался, становился влажным. Или остро пахло грибами – не сушеными, которых у Агафьи Трифоновны был целый мешок, а свежими: млечными груздями, рыжиками и волнушками. В холодную засолку бы их, томился Лев Вениаминович и пытался разлепить губы, чтобы позвать Агафью Трифоновну. Пусть она срочно соберет эти грибы, засыплет черной земляной солью и под гнет, где-то в шкафу лежит оставшийся от матери чугунный утюжок… Шепчущие тени продолжали сновать вокруг, но они ничем не пахли и уже вызывали не страх, а досаду, как настырные комары или слепни.
А потом Лев Вениаминович увидел поле. Стены комнаты растворились, и остался паркет, который переходил в комковатую голую землю. Почему здесь ничего не растет, безмолвно возмутился Лев Вениаминович, неужели забросили?..
Вороны падали с неба на пустую пашню и выклевывали что-то из земли. Накрапывал дождь, но Льва Вениаминовича защищал парящий над диваном прямоугольник городского потолка. А потом, еще чуточку приподняв тяжелые веки – в полусне это всегда давалось с необычайным трудом, и он даже задумывался, не был ли сонным паралитиком пресловутый Вий, – одинокий философ разглядел ползающую по мокрой земле человеческую фигуру. Коренастая, замотанная в тряпки, она вместе с птицами выискивала что-то в земле и ела.
Льву Вениаминовичу стало не по себе – телефонный знакомый, выдающийся врач-уролог, рассказывал, что в полусне к людям часто являются их худшие кошмары: разлагающиеся мертвецы, пляшущие черти, ведьмы и домовые, которые садятся на грудь и душат. Пока Морфей Льва Вениаминовича миловал, но ползающий в грязи и жадно что-то жрущий человек выглядел жутковато. Пора было возвращаться в безопасную явь. Лев Вениаминович напряг голосовые связки, разлепил губы и издал еле слышный сип. Это потребовало такого усилия, словно глубоко внутри он на самом деле кричал во весь голос. Обычно после подобного он сразу же просыпался.
Фигура выпрямилась и обернулась, как будто услышала этот внутренний крик. Паника тугим ледяным клубком прокатилась по животу Льва Вениаминовича и ткнулась в ребра. Фигура оказалась бабой в сером изношенном платье с высоко задранным и подоткнутым подолом. Лев Вениаминович отчетливо видел наплывы дикого мяса у нее на ляжках. Баба зачем-то вытерла руки о раздутый живот и пошла прямо к нелепо застывшему посреди поля дивану. От нее так и разило ядреным потом и какой-то бессмысленно враждебной, животной силищей. Суматошно каркали вороны. У бабы было круглое большое лицо, похожее на картофелину, низкий лоб прятался под туго повязанным платком, а тонкогубый, но широкий, как у лягушки, рот был перемазан землей. Черные потеки слюны ползли по подбородку, маленькие глазки бабы смотрели тускло и неподвижно, словно ей не было до Льва Вениаминовича никакого дела, но она уверенно шла прямо на него, все быстрее и быстрее. И, продолжая работать челюстями, жевала на ходу с размеренным хрустом.