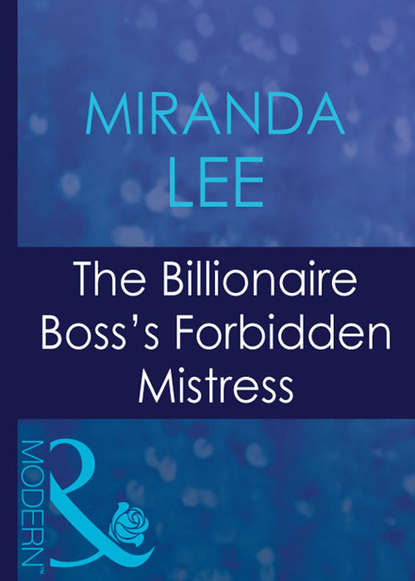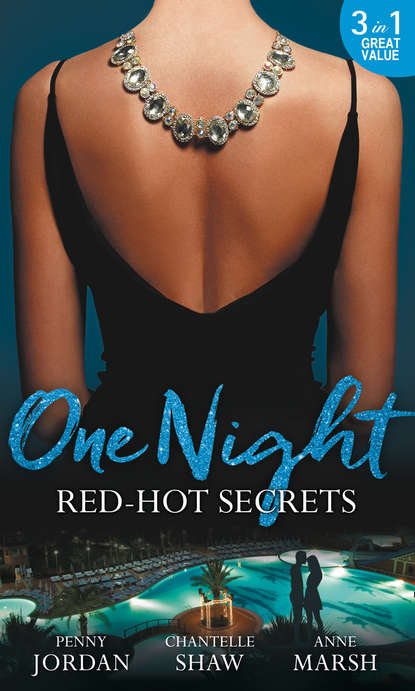- -
- 100%
- +

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Содержит нецензурную брань
Часть первая
«Скажите лучше честно,
Что вам не все известно!
А то, что неизвестно,
Вы думаете, обман?»
–– Юлий Ким
1. Бабка и другие мелочи жизни
– Я вам всю правду скажу, – честно предупреждала баба Люба очередного собеседника, готовясь скормить неосторожно развесившему уши щедрую порцию чистейшей лжи. И они, простофили, верили.
Сеня просто диву давался: взрослые же люди!
Но если бы вам вздумалось назвать бабу Любу обманщицей, то попали бы вы своим обвиняющим перстом точнёхонько в небо. А уж как саму Любовь Моисеевну Голуб ни за что ни про что оскорбили бы… Она-то считала и гордо именовала себя человеком кристальной честности и, как ни парадоксально это прозвучит, честным человеком и являлась.
Возможно, такое заявление вызовет у вас недоверчивую ухмылку. Что ж: можете ухмыляться и даже смеяться сколько влезет – вольному воля, – но только я за свои слова отвечаю. Баба Люба не то что копейки – нитки чужой в жизни не присвоила. Просто на волне вдохновенного вранья она абсолютно верила в то, что говорила. Доведись ей в такой момент подвергнуться проверке на полиграфе – прошла бы тест за милую душу.
Все же придется признать, что замечались, замечались за Любовью Моисеевной и некие эпизоды сознательного – как бы тут помягче выразиться?.. – искажения информации: в тех ситуациях, когда бескорыстная ложь виделась ей вполне приемлемым, а порой даже необходимым инструментом для торжества справедливости.
Ради собственной выгоды – нет, не врала.
Чтобы не купиться на произнесенное самым ее доверительным тоном предупреждение обо всей правде, надо было бабу Любу очень хорошо знать. А знали ее по-настоящему во всем белом свете лишь два человека.
Первым был муж Фима, давным-давно вверивший свою судьбу в ее небольшие, но крепкие руки и с тех пор воспринимавший любые проявления личности супруги флегматично, с доброй толикой пофигизма: ну такая досталась…
Вторым человеком, видевшим баб-Любу насквозь, был, к полному ее неведению, одиннадцатилетний шкет, единственный внук – наказание ее и последняя утеха.
А что родители внучка́? – спро́сите вы. Ох, родители – одно название. О них чуть дальше. Мы о
нем – о выродке, эгоисте, «мамзере»1, « дыбыке»2, и так далее – вдоль и поперек неиссякаемого баб-Любиного репертуара. О Сенечке.
1 Мамзер – незаконнорожденный (ивр., идиш)
2 Дыбык (искаженное Диббук) – персонаж еврейской мифологии, злой дух в ашкеназском фольклоре (идиш)
Впрочем, называть его Сеней бабка упрямо отказывалась. Для нее он был Шимке. Именно так она зазывала его домой, выкрикивая с балкона на всю округу: «Шимке! Шимке-э!» И мальчишки, с которыми вот лишь минуту назад дружно гоняли мяч или с упоительным грохотом пинали по асфальту порожнюю консервную банку, немедленно подхватывали: «Шимкэ! Шимкэ-э-э!» Дразнили.
И вся дружба тут же рассеивалась, и оставался Сенька один-одинешенек против гогочущей стаи. Он плелся домой, привычно сатанея, наливаясь до краев ненавистью к бабке за этот гогот. По дороге на свой четвертый этаж расплескивал часть ненависти на ступенях лестницы, но обида… Нет, обида никуда не девалась: «ну почему, почему она не может запомнить, что среди чужих надо называть внука нормальным именем?!! Как в метрике прописано.»
Не сказать, что после коллективного осмеяния Сеньке становилось не с кем играть в футбол – еще чего! Пацаны – они, ясное дело, дураки, но если на каждую дразнилку подолгу реагировать, то и детства никакого не останется. Тем более, что на следующий день та же стая орала в восемь глоток под балконом: «Сенька, выходи! Играем с семнадцатым!» Заслышав шум, Любовь Моисеевна величаво выплывала на балкон, и мальчишки наперебой просили: «Теть-Люба, отпустите Сеню постоять на воротах! Всего один часочек!»
В целом же описать Сенины отношения с бабкой можно было бы одним словом: война. Война бескровная, негромкая, зато затяжная и безысходная. А также безнадежно неравная.
Не торопитесь однако в этом месте понимающе качать головой и сокрушаться: ах, бедный беззащитный ребенок при авторитарном, подавляющем взрослом. Ибо беззащитной стороной там была как раз-таки бабка. Любящий всегда беззащитен перед отвергающим. А любила баб-Люба своего внука неистово, до захлеба. Любила с того самого момента, как, впервые увидав в приемном покое Подольского роддома рыжее это наказание, эту погибель свою, выдохнула: «Шимке!»
Странное имя было взято не с потолка: Шимоном, Шимкой звали бабкиного младшего братишку, которого она, тогда пятнадцатилетняя, покинула в больнице местечка Народичи в августе сорок первого. Пудовая каменюка вины перед навеки восьмилетним братом давила Любовь Моисеевну вот уже тридцать с гаком годочков. И чем дальше, тем сильнее давила – то приступами астмы, то мигренью.
Любовь к внуку (ну копия Шимке!) была тяжелой, болючей, и никакого просвета в той боли не предвиделось, поскольку дыбык и мамзер бабку свою, прямо скажем, в грош не ставил.
Бабка была данностью, к которой во избежание серьезных проблем приходилось осторожно приспосабливаться. Пользы от нее было немало: вкусная еда, чистые рубашки, искусно заштопанные штаны, – но шиш радости. Если бы в один непрекрасный день, возвратившись из школы, Сенька узнал бы, что бабуля отошла в мир иной, его в первую очередь озаботил бы самый что ни на есть насущный вопрос: «а обед сготовить она успела?»
Нет, вы не подумайте, монстром он не был, зла бабке ну никак не желал. Порой даже жалел слегка. Просто было ее слишком много – неизбежной как первое сентября, и неотвратимой как девять часов вечера.
Отношения Сени с дедом Фимой подобным драматизмом отмечены не были: дед ни на чем не настаивал, голос в семье имел минимально-совещательный, без права вето.
Погодите, но что это мы всё «бабка» да «бабка»? Вы тут, небось, поспешили уже представить себе дряхлую старуху в цветущем маразме, неспособную даже запомнить имя родного внука. Так это зря. Никакой старухой, тем более дряхлой, Любовь Моисеевна не была: лишь недавно шестой десяток разменяла. Просто сразу после рождения Сенечки она так охотно влезла навеки в домашний халат, так гордо стала именовать себя бабушкой и принялась стареть с такой готовностью, что окружающим только и оставалось, что согласиться. А Сенечка – что? Раз бабушка, значит старуха, правильно? Логично.
Вдобавок, в подтверждение «бабскому» своему званию, стала Любовь Моисеевна к пятидесяти годам той еще распустехой: расплылась по всем осям координат, собрала полуседые спиральки волос на затылке в небрежный пучок, а из обуви признавала лишь кожаные тапочки – что дома, что на люди. Для зимы имелись у нее старушечьи войлочные боты и пальто с цигейковым воротником, но надевать их доводилось крайне редко – домоседкой была наша баба Люба. С тех пор как муж Фима вышел на пенсию, а внук научился быстро считать в уме, она и в магазины перестала выбираться. Хозяйство велось следующим образом: Любовь Моисеевна в одиночку воевала с домашним бытом, а муж с внуком исправно подносили снаряды – из продуктовых магазинов.
Прежде Сеня частенько сопровождал бабку за покупками, и не без выгоды для себя: почти всегда ее можно было раскачать на какое-нибудь лакомство, выходящее за жесткие рамки семейного бюджета. Зимой она довольно легко соглашалась купить своему Шимке соблазнительно припорошенную сахарной пудрой булочку с повидлом за семь копеек или истекающее пряным соком моченое яблоко, выкопанное продавщицей отдела солений из-под мезозойских слоев влажной ароматной соломы. Летом… ну это без вопросов. Летом пломбир в вафельном стаканчике. Оно, конечно, «Каштан» в шоколадной глазури с ореховой крошкой посильней будет, кто спорит, но считайте сами: два «каштанчика» по 28 – это 56 копеек, а три пломбирки по 19 – это 57. Так какой дурак три мороженки на две сменяет? Только не Сеня. Исходя из такой арифметики, он, дабы слюнкой зря не исходить, раз и навсегда назначил обычный пломбир не просто своим любимым, а лучшим в мире мороженым.
Хорошо запомнился ему малозначительный, как тогда показалось, эпизод, после которого бабка навсегда прекратила ходить за покупками. Конфликт произошел в хлебном магазине, куда бабушка с внуком зашли за обычным своим двухдневным набором: полбуханки украинского, половинка арнаутки и две городские булки. В тот злосчастный день булок на раскладке не оказалось. Расплачиваясь за хлеб, бабка поинтересовалась у кассирши, когда подвезут «французские булочки».
Вы скажете: ну мелочь какая – неправильно назвала товар, было бы о чем говорить. Но в этом была вся баба Люба: она не одного лишь собственного внука именовала так, как ей хотелось, а в принципе пренебрегала, по мере возможности, теми аспектами окружающей реальности, которые казались ей нелепыми, лишними. Французская булочка имела полное право именоваться французской – ее во Франции придумали! С какого бодуна было ей вдруг становиться городской? Изменение рецептуры или очередной пример истеричной политической придури?
Став постарше, Сеня заподозрил, что с бабкиной стороны то было вполне программное презрение. Презрение и молчаливый протест против абсурдной действительности, в которую жизнь и родное правительство загоняли Любовь Моисеевну. Именованиями бабка отстаивала ошметки своей реальности.
Вот это-то презрение, этот протест хлебная кассирша и учуяла безошибочно в таком невинном, на первый взгляд, булочном вопросе Унюхала чужесть. И обрушила на непокорную покупательницу кипящую ярость классовой ненависти: весь советский народ, понимаешь ли, соглашается принимать то дерьмо, в котором сидит, за шоколад, а эта (!) имеет наглость желать другого. Желать странного, как сказали бы Стругацкие3.
3 Повесть братьев Стругацких «Попытка к бегству»
Кассиршу ту Сеня давно знал – она была хамоватой, грубила направо и налево, – но злился все равно на бабку: все покупатели в очереди пялились на них, и он готов был сквозь землю провалиться. Демонстративно отодвинулся от бабки на полметра и глядел в сторону, подчеркивая свою непричастность к конфликту: я не я, и бабка не моя.
Любовь Моисеевна в ответ на гневную тираду грубиянки не проронила ни слова – вступать в перепалку почитала ниже своего достоинства. Вернувшись домой, лаконично поставила мужа в известность о том, что больше она в магазин ни ногой.
Изменить реальность ей было не под силу, но возможность избегать близких контактов с определенной частью человечества существовала. Дома, за стенами ее личного уголка вселенной, городская булка могла безнаказанно оставаться французской, плетеный калач – халой, запеканка – куглом, вареники – креплах, а у рыбных тефтелей – пусть даже самого что ни на есть минтайского происхождения – никто не мог отнять права гордо именоваться гефильтэ фиш.
Придирчиво отобранный круг лиц, допущенных в этот укромный мирок, состоял из дочери Сони с зятем, кузины Баси, золовки Цили, соседей Киселевых да двух баб-Любиных приятельниц – Лизы и Нюси. Кроме этого ближнего круга, в доме бывали приняты бывшая мехатунестэ4 Фира Кацнельсон и несколько безликих для Сени дам среднего и старшего возраста, периодически припадавших к Любови Моисеевне в поисках мудрости вообще и конкретных житейских советов в частности. Все вышеозначенные персоны были неоднократно проверены на знание словаря хозяйки и на безусловную веру в предлагаемую им всю правду. Горемыки, имевшие неосторожность подвергнуть сомнению хоть что-нибудь изреченное Любовью Моисеевной, вычеркивались из списка допущенных. Навечно.
Сеньку добровольное бабкино отшельничество вполне устраивало, против «подскочить за хлебом» или «сбегать за кефиром» он ничего не имел, даже наоборот: все, что могло оторвать его от ненавистной дудки, приветствовал с энтузиазмом.
4 Мехатунестэ – сватья (идиш)
2. ДудкаДудкой Сеня именовал кларнет. Бабка считала занятия музыкой вложением в будущее, а внук видел в подлой дудке кражу своего настоящего. Вот такое несовпадение.
И обходилось это несовпадение обоим недешево. С сентября по май Любовь Моисеевна – угрозами и причитаниями вкупе с капаньем себе валокордина – немилосердно урезала Шимке уличное время: два часа в воскресенье. Он бы до лета попросту не дотянул, погиб бы в неволе во цвете лет, кабы не забота министерства просвещения в виде трех спасительных островков межчетвертных каникул.
Уж там-то он оттягивался по полной. В короткие недельки следовало до хренищи важного вместить: не только в футбол с Толяном Киселёвым и другими соседскими пацанами погонять, пистонами шороху наделать, фольговых ракет, начиненных спичечными головками, на пустыре позапускать, но и непременно осуществить хотя бы один дерзкий пиратский налет на замершую стройку в конце улицы – за карбидом, арматурными прутами и всякой другой до зарезу необходимой всячиной.
И все вот эти радости жизни взять и на музыкальные муки променять?!
С кларнетом еще можно было если не слюбиться, то как-то стерпеться. Звук его – от потаенных сомнений до ликующего солнечного взлета – был Сене в целом по душе. Он даже подозревал, что не присутствуй в навязанных занятиях элемент обязаловки, брать в руки кларнет могло бы быть совсем не противно. Чего там – другой раз и надудел бы что-нибудь этакое в свое удовольствие.
В музыкалке, увы, ничего этакого не было – одни бесконечные осточертевшие гаммы и тупые упражнения под монотонный притоп прокуренного старика Кусайко в осыпанном перхотью пиджаке. Дополнительной нагрузкой к дудке шли сольфеджио, муз-лит, хор и «общее» фортепиано. Как в овощном магазине: хочешь купить пяток апельсин – бери вместе с ними кило гнилого лука. Настоящим наказанием, тем самым гнилым луком, являлось для Сени сольфеджио: слуха у него, согласно вердикту училки, было – кот наплакал. То есть полным гудком Сеня не был: слышать чужую фальшь мог, а чувство ритма имел и вовсе прекрасное, но этим музыкальные его таланты и ограничивались.
Бабка, однако же, твердо верила в то, что способности следует развивать, что «терпенье и труд все перетрут», и под этот девиз ежемесячно выкраивала из скромных семейных ресурсов шесть рублей на Шимкины музыкальные страдания. На любую его попытку увернуться от домашних репетиций или хотя бы сократить их, отвечала одной несокрушимой фразой на идиш: «Мы даф тин ун hорвен.» Первая половина этого тезиса, казавшегося Сене подходящим скорее для ворот Освенцима, чем для семейного круга, переводилась просто: «надо делать» – в смысле, работать. А вот словечко hорвен – о, это вам не просто «трудиться» или там «стараться», это что-то из разряда «вкалывать, пахать, рвать жилы» – так бабка представляла себе подготовку внука к превратностям жизни: hорвен – и не ожидай никаких снисхождений!
– Почему?!
– Потому что ты еврей.
(Когда Сенька впервые, еще дошколенком, узнал о себе такой ужасный, позорный факт, он попытался протестовать: «Я не хочу быть еврей! Я хочу быть Славик!»)
А в прошлом году еще и отчим свинью подложил. Он пасынка даже на расстоянии выносил с трудом, но, будучи человеком порядочным и совестливым, неприязни этой своей стыдился, и – ради избавления от стыда – купил для Сени «почти новое» пианино. После чего с удвоенным тщанием, но зато с чистой совестью продолжил считать каждый рубль, потраченный женой на чужого ему ребенка.
Появление в доме пианино – черного полированного черниговского монстра – вбило последний гвоздь в Сенькину мечту соскочить с музыкального крючка. С тех пор уже не одна лишь бабка, но и мать, и отчим требовали от него «окупить затраты». Так и влачил наш герой музыкальные свои вериги: с обморочной тройкой по сольфеджио и с хроменькой (да чего там, прямо скажем – натянутой) четверкой по «специальности».
Не подумайте, что Любовь Моисеевна наивно мечтала о некоем прекрасном дне, когда во внуке проснется Моцарт и принесет семье деньги и славу. Да плевать ей было и на деньги, и, тем более, на славу! Ожидания ее были куда скромней: подготовить Шимке к призыву в армию, чтобы не пришлось ребенку ползать на пузе в грязи и терпеть дедовщину. Согласно бабкиному плану, ему надлежало к восемнадцати годам освоить кларнет до уровня средненького полкового оркестранта и службу проходить музыкально: без побоев и унижений, деля казарму с себе подобными.
Сенечкиной армией баб-Люба озаботилась еще тогда, когда сам объект ее тревог беспечно барахтался в пеленках. Начало же исполнения плана было положено, едва ребенку исполнилось десять, и бабка сочла его легкие достаточно развитыми для освоения духового инструмента. Труба показалась ей недостаточно интеллигентной, флейта – легкомысленной, а кларнет пришелся в самый раз.
Сеня на предмет армии, естественно, не парился: вон, дружок Толян – на год старше, к армии, выходит, ближе, а не заморачивается. И правильно делает: до восемнадцати еще вагон времени.
На баб-Любу подобные успокоительные доводы никак не действовали, ибо довелось ей прокатиться в том вагоне времени уже дважды. Знала не понаслышке, как годы за окном мелькают, как быстро дети растут. А внуки, особенно любимые, – и того быстрее.
3. РодителиБабка, проникая во всякую щелочку и заполняя собой каждый уголок жизни внука, не затрагивала, как мы могли убедиться, даже мизерной части его души.
Любил же Сеня только мать. Да и как могло быть иначе? Посудите сами. Во-первых, мама Соня была невозможно красивая и молодая – ни у кого в классе такой молодой мамы не было; во-вторых, она не приставала, поучениями не надоедала. Собственной жизнью занималась и в Сенину не лезла. Если другой раз и нападала, то без вдохновения, абы бабке угодить.
А между мамой и бабкой – какое могло быть сравнение? Смешно даже. Мама – она классная, клёвая, а бабка – зануда липучая; мама цокает каблучками, а бабка шаркает тапочками; мама пахнет духами, а бабка – луком и хозяйственным мылом.
Бабка маму от Сени гоняла, утверждала, что ничему хорошему дочка внука не научит. Сеня знал от бабки, что мама у него безмозглая, да и сам неоднократно имел возможность в этом убедиться.
Что далеко ходить – вот лишь недавно случай был: подбросили пацаны изрядный кусок карбида в ведро злюке-дворничихе, которая как раз собралась мыть лестницу в подъезде. И слиняли, разумеется.
Если вы когда-нибудь развлекались бросанием карбида в воду, то нет необходимости рассказывать вам о том, к какому эффекту это привело. А тем, чье детство обошлось без подобных внеклассных мероприятий, описывать мерзкий запах ацетилена, растекшийся по подъезду, все равно бесполезно.
Несчастная дворничиха еще и руки вдобавок обожгла, спасая любимую свою половую тряпку.
Всех мальчишек двора допросили с пристрастием, многие сполна отведали отцовских ремней и материнских затрещин. А уши – на всякий случай – надрали всем подряд, без разбору.
Сенька же участвовать в злодействе никак не мог: он в тот момент как раз прилежно покупал по бабкиному заданию ряженку и сметану в молочном магазине на Осиповского. Возвращаясь с брякающими в авоське бутылками, застал уже развязку драмы. Но дворничиха именно его приметила и, не вдаваясь в разборки, нажаловалась деду Фиме.
Сеня свою причастность к теракту недоуменно отрицал. Тогда срочно была призвана на семейный совет Соня. Взяв сына за подбородок, потребовала сказать правду:
– В глаза мне смотри.
Сеня посмотрел, причем не без удовольствия. Глаза у мамы были красивые: большие, черные, как спелые вишни, с аккуратно загнутыми кверху и тщательно прокрашенными ресницами.
– Не участвовал?
– Нет.
– Тогда почему брехунчики в глазах бегают?
Ну что на такое ответить? Клясться-божиться? Так не поможет. Проще вообще ничего не отвечать – промолчать и сделать вывод: да, таки безмозглая, а прикидывается проницательной. На понт берет. Даже не понимает, что Сеня никогда в жизни не причинил бы никому вреда. Совсем она своего сына не знает. И узнать, как видно, не старается. Не заинтересована.
Любви, однако, подобные инциденты нисколько не мешали. Мама, несмотря ни на что, оставалась Сениной прекрасной принцессой, и он мечтал поскорее вырасти, чтобы служить ей верой и шпагой.
Такая ничем не заслуженная привязанность язвила бабкино сердце. Ревновала она внука к собственной дочери страшенно.
И как тут было не ревновать: ведь ради Шимке бросила она в сорок лет спокойную работу в аптеке, пенсии из-за него лишилась; ни единого свободного дня вот уже сколько лет не имела – лишь бы дыбыка своего драгоценного растить и холить. Лучший кусочек, последний рублик – все ему, все для Шимке.
Благодарность? Нет, на благодарность она не рассчитывала, полагая отсутствие признательности со стороны внука справедливой расплатой за давний свой грех перед маленьким братиком.
Любви! Хотя бы маленькой крошечки любви алкала она от Шимки – того, чего никто и никогда за всю историю человечества не сумел ни добиться, ни даже заслужить.
Так что справедливость справедливостью, а сердцу не прикажешь – там и ревности место находилось, и обиде.
Тем более, что была Соня матерью приходящей. Воскресной. Жила отдельно, Родив сына «по дурости», она с облегчением вручила его матери и занялась устройством личной жизни.
Биологический отец мамзера – Сонин одноклассник Лёвка, с которым они, запершись на двадцать минут большой перемены в школьном спортзале, впопыхах зачали Сенечку, – от нежданного потомка не отрекся, согласился даже покрыть грех, зарегистрировав брак, но идти дальше этого благородного жеста не намеревался. Усвистал в Новосибирск поступать в университет – в Киеве физмат ему не светил.
Любовь Моисеевна Лёвку не осуждала. Дочку свою знала хорошо и была бы благодарна любому мужчине, согласившемуся разделить судьбу с «медленной» балдой Соней.
Нет, ну это ж надо было так точно с именем подгадать! Перманентно слегка невыспавшаяся Соня даже беременность свою не потрудилась вовремя заметить и озадачилась лишь в конце выпускного, когда, напрыгавшись в летке-енке, ощутила некое странное беспокойство в недрах своего балдастого существа, непонятное какое-то шевеление. В общем, пропустила все сроки избавиться от непрошенного пассажира.
Чем, в конечном счете, и осчастливила свою мать. Та потребовала от дочери лишь одного: выкорми ребенка хотя бы до полугода, а дальше я сама справлюсь.
Через полгода мать пристроила Соню на свое место в аптеке: зарплата пускай и грошовая, зато весь день на людях – глядишь, и заметит кто-нибудь подходящий, оценит красоту.
Соня, вся в ожидании любви, сидела за кассой, отделенная от зала стеклом, словно ценный экспонат в музейной витрине. Постреливала на покупателей таинственными взглядами из-под густых ресниц. Взгляды эти чаровали многих, вот только наличие у красавицы ребенка никого не вдохновляло.
А Феликс попался по полной. Он в тот год как раз находился в апогее развода и разъезда со своей цидрейтэ5 и мечтал лишь о тишине.
5 Цидрейтэ – чокнутая (идиш)
Апрельским вечером после очередного, особо бурного домашнего скандала он перешагнул через осколки разбитой посуды и сбежал от криков без пяти минут бывшей жены. На глубоко вспаханной и щедро засеянной ею Феликсовой нервной почве уже цвела пышным цветом депрессия и пошел колоситься невроз.
Будущий Сенин отчим брел по темной мокрой улице, проклиная тот день, когда впервые пришла ему в голову роковая мысль о браке. Остановился у ярко освещенного окна аптеки, за которым, как на экране телевизора, бесшумно двигались немногочисленные покупатели. Чаша Гигеи, небрежно наляпанная через трафарет на стекло криворуким маляром, подала оригинальную идею: травануться бы чем-нибудь – но, чтобы безболезненно. Да только и тут полный облом: снотворного без рецепта не продадут, а травиться марганцовкой или борной кислотой долго и неэстетично.
И вдруг все мысли пропали, ну просто все до единой: в стеклянном стакане аптечной кассы восседал, нет – парил над залом чернокудрый ангел. Спокойная до медлительности дева глядела томно, заправляя локон за точеное ушко маленькой ручкой с перламутровыми ноготками. Феликс остолбенел: вот она, мечта! И ему срочно понадобился пирамидон. На следующий день возникла жгучая потребность в аспирине. Не выждав и суток после приобретения аспирина, Феликс явился в аптеку за лейкопластырем, еще через день – за бинтом и зеленкой. После аскорбинки и термометра настала очередь свиданий-провожаний.