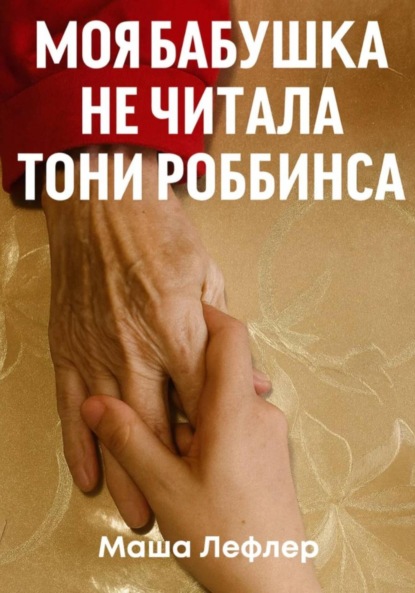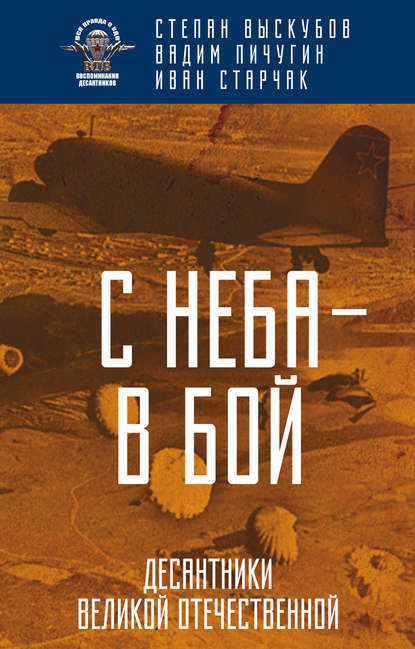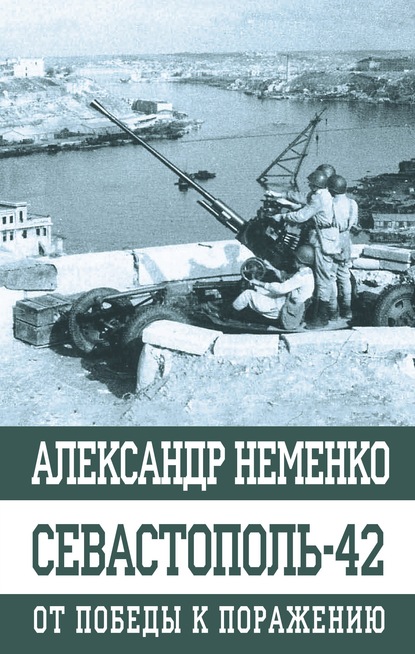- -
- 100%
- +

Предисловие
посвящается Ларисе Николаевне Костоубаевой, моей бабушке, благодаря которой я когда-то написала свою первую заметку в газету, а теперь пишу первую книгу.
И, конечно, моей маме.
Иногда мне кажется, что мы все – современные люди, поколение соцсетей и гаджетов, – похожи на тех самых рыб из древнего дзен-коана. Тех, что искали воду, даже не понимая, что они уже в ней.
Особенно остро я это вижу в последние годы: общаясь в чатах, читая чужие комментарии, листая ленту в соцсетях. Нам всем чего-то не хватает: кому любви, кому признания, кому денег, кому счастья. Мы хватаемся за новые курсы, ищем лайфхаки, шаги и инструкции, которые точно сработают, изучаем все новые способы жить, находим ответы и вдохновляемся новыми идеями и концепциями, как будто один из этих бесконечно потребляемых информационных потоков наконец нажмет эту волшебную кнопку “стать счастливым”. Парадокс в том, что эта гонка не делает нас счастливее. Наоборот.
Согласно Global Flourishing Study – масштабному пятилетнему международному проекту, проведённому Гарвардским и Бэйлорским университетами в сотрудничестве с Gallup и Центром открытой науки (COS), – классическая U‑образная кривая счастья, по которой человек в юности испытывает высокий уровень благополучия, затем проходит через спад и вновь находит удовлетворённость к пожилому возрасту, сегодня практически исчезла.
Молодые взрослые в возрасте от 18 до 29 лет демонстрируют самые низкие показатели субъективного благополучия. Причины – растущее чувство одиночества, тревожность и постоянное давление социальных сетей.
Эту тенденцию подтверждают и данные World Happiness Report, и исследования Happier Lives Institute, и работа учёных из Чикагской бизнес-школы, а также материал The Guardian, посвящённый исследованиям Жана Твенджа и Дэвида Бланчфлауэра.
В шести англоязычных странах молодёжь больше не является «счастливой» частью U-кривой. Её форма сглаживается или вовсе ломается. Всё больше людей чувствуют себя пустыми в те самые лучшие и яркие годы, когда должны бы радоваться, наслаждаться и делать глупости.
В общем, возвращаясь к мысли о рыбах, мне не кажется. Данные исследований подтверждают, что мы стали более тяжелыми, тревожными и хрупкими. И при этом – то, что может сделать нас живыми и счастливыми, сейчас ближе, чем кажется.
Я пишу об этом с уверенностью, потому что долгое время сама искала себя и своё счастье, ходила по консультациям в надежде получить пошаговый план с гарантированным результатом: “Скажите, тётенька, кто я? Как мне жить, чего хотеть? Какая я? Как мне найти себя, и как мне найти то, что на сто процентов моё?”
Я долго думала, что формула счастья вот-вот поддастся, разгадается и кааак заживем! Осталось ещё немного, и я всё пойму, всё разберу, всё починю, всё проработаю, и наступит благодать. Но за каждой победой над собой и раскопанной о себе правдой на сессиях с психологами открывался новый уровень сложности, снова и снова. И с каждым разом я чувствовала себя всё менее удовлетворенной, всё более тревожной, и всё безнадёжнее поломанной. Пока в один прекрасный день я не разочаровалась окончательно. Пришлось признать: не проработалась, и ладно. Придется как-то мириться с тем, что есть.
В этот же период по счастливой случайности мне потребовалось окунуться в историю жизни моей бабушки. Оказалось, формула счастья все это время сидела за старым столом с трогательной потертой клеёнкой с газетными вырезками под ней и терпеливо ждала, когда я перестану искать воду там, где её нет.
Оказалось, что для того чтобы найти ответы, иногда нужно просто вспомнить, кто варил тебе суп в детстве, ужасаясь, как можно жить с холодильником, в котором мышь повесилась, когда в доме дети. Кто брал с собой в лес за грибами, учил прикладывать подорожник к разбитым коленкам и срезал самые красивые цветы из своего сада для твоего первого сентябрьского букета. Вспомнить и попросить рассказать о своей жизни, если ещё есть такая возможность.
При этом я абсолютно уверена, что если бы моя бабушка ответила на мои вопросы прямо (а для этого ещё нужно, чтобы я набралась смелости их в себе заметить, сформулировать и задать), я бы не смогла услышать смысл, только советы. А советы мы, как правило, пропускаем – там в голове есть специальный отдел сопротивления, сотрудники которого выгружают в ответ на прямые вопросы конструкции вроде “да, но…”, “им легко говорить”, “вы не понимаете, это другое” и так далее. Советы мы выслушиваем, киваем и продолжаем жить по-своему. Но истории работают иначе. Мы автоматически примеряем чужой опыт, вовлекаемся в контекст, удивляемся, задумываемся. И ответы в таким случае находятся сами собой.
Так вот, эти истории сработали лучше, чем часы психотерапии. Поэтому я и хочу, чтобы их прочитало как можно больше людей. Я думаю, нам не нужен ни ещё один курс, ни ещё один блогер-психолог с быстрыми рецептами, ни даже топовый коуч. Нам всем нужно попить чай с бабушкой.
В этой книге вы можете сделать это со мной.
Момент 1
Под сонный чучу-чучуууух рассыпаюсь на сотни маленьких Маш. Мысли ползут медленно, часто останавливаются и зависают недодуманными, загипнотизированные ритмичным стуком колёс. Глаза видеть не хотят этих ваших интернетов. Благо, за девять часов пути связь может моргнуть только несколько раз, в остальное время – полный цифровой детокс, и я могу с чистой совестью придушить телефон подушкой.
Хорошо. За окном бесконечные и любимые панорамы, которые уже начинают постепенно походить на родные края: понатыканные вдоль железной дороги поселки с трогательными домишками, узкие речки, густые, как с картин, леса, переходящие в просторные поля и обратно. На первый взгляд может показаться, что все эти сцены очень похожи, как-будто кто-то по кругу снова и снова ставит в проектор один и тот же диафильм. Даже маленькие станции одинаковые.
Но я с каждым километром чувствую, как приближается именно моя природа. Это странное ощущение: если я расскажу кому-то, что леса Челябинской и Пермской областей отличаются, чем-то неуловимым, но всё-таки отличаются, то, наверное, меня запишут в кагорту новомодных “ясночувствующих”. Хихикаю сама над своими мыслями, вспоминая, как пыталась объяснить, что и лица у людей, с рождения живущих в Пермском крае, отличаются какой-то невидимой печатью, которую я узнаю с первого взгляда. Тогда собеседники ничего не поняли. Ну и ладно.
Сын, которого я неизменно беру с собой “к бабушкам”, укачался и мерно посапывает. Значит вот оно, золотое время тишины и одиночества, которое можно украсить горячим химическим капучино из пакета и плиткой приторного шоколада. Иду за кипятком – ловлю свой туманный взгляд в качающемся зеркале, и следом ощущение “как-же-я-себе-нравлюсь-в-таком-состоянии”. Я уже в знакомом безвременном портале, в пространстве, которое соединяет моё настоящее и прошлое. И моя Большая Тревога, которая квартирует темной тучей в сознании последние пару месяцев, постепенно укачивается мерным чух-чухом, что-то сонно бурча.
Допиваю кофе, откладываю книгу (всё равно не читается), падаю на подушки. Пятнадцать лет назад я уехала из родного города, и теперь, каждый раз, как я приезжаю в гости, я мысленно возвращаюсь в это время. В моём мире мой родной город – маленькая вечная вселенная, в которой всё остается на своих местах, сколько бы лет мне не было. И как только пейзажи за окном всё больше начинают напоминать лес около родительского дома, на меня обрушиваются без спросу какие-нибудь воспоминания из прошлой, довзрослой жизни.
Летом я часто жила у бабушки и дедушки в саду. Это было самое счастливое время, когда можно было спать, сколько хочется, и просыпаться, как в книжке, от ярких солнечных лучей, заливающих маленькую комнатушку. Бежать в сад, собирать клубнику в эмалированную тарелку по стандартной формуле “две в плошку, а одну, самую красивую – в рот”, возвращаться в прохладный домик и заливать добычу молоком из холодильника. К этому моменту бабушка, как правило, уже занималась огородными делами, а дедушка что-то строгал, пилил и колотил в своей мастерской около бани. А значит, я была предоставлена сама себе. Дальше можно было схватить книжку и завалиться с ней под куст смородины, и читать, периодически выколупывая муравьев из-под футболки и объедаясь синими, плотными, лопающимися во рту ягодами. Можно было послушать пластинки на старом проигрывателе. Можно было зарыться с головой в огромные вещевые мешки на чердаке и наряжаться, перебирая старомодные наряды, играть в “принцессу в башне”. Можно было уговорить бабушку сходить искупаться на речку – правда, всегда был риск, что попадись я ей на глаза, буду сразу обременена трудовой повинностью в виде прополки грядок или службы клубничным барбером, который, пыхтя, избавляет кусты от лишних “усов”. Так проходили мои летние будни – в играх, чтении, наслаждении свежим воздухом, походах за грибами, исполнению мелких поручений по саду. А на выходных приезжали родители, и мы топили баню, выносили стол на веранду, дедушка коптил скумбрию или жарил шашлыки, и был пир.
Смотрю в окно на пролетающий мимо свежий летний лес, и вдруг осознаю, что всё вроде бы осталось таким же. Скоро мы приедем, и обязательно будет пир. Папа запечет дораду или нажарит шашлыков, мы затопим баню, накроем на стол в беседке и проведем выходные так же, как двадцать пять лет назад. Почти так же.
Иногда меня накрывает странная грусть: я понимаю, что являюсь, наверное, одной из последних, кому так повезло. Я – из тех детей, кого растили бабушки. Мою маму растила её бабушка, меня растила моя.
Сейчас тоже лето. Моему сыну, как и мне в воспоминаниях, семь лет. Но он ещё ни разу не оставался жить у бабушки в саду, хотя у моих родителей теперь тоже есть и дом, и сад. Всё потому что я изменила привычному укладу жизни нашего маленького города, и после университета не вернулась домой, а осталась жить в больших городах. Со стороны мой стиль жизни похож на красивую картинку из соцсетей типичной диджитал-номад мамы, которая живет то в Москве, то на Шри-Ланке, то в Грузии. И это, правда, очень классная жизнь. Но у неё есть цена – территориальная разделенность и возможность бывать в родном городе дай бог пару раз в год.
Да и моя мама совсем не бабушка с пирожками: она работает, путешествует, ведёт блог, преподает йогу, выращивает цветы и ходит на курсы английского. В общем, с таким плотным расписанием просто не получится спихнуть ребенка на лето, да он и не привык. Но самое главное – я сама не так уж много усилий прикладывала для того, чтобы они сблизились.
Стыдно признаться, но появление собственного ребенка совпало с периодом моего увлечения популярной психологией, где добрые лекторы рассказывали о том, как ужасно и неумело действовали предыдущие поколения родителей, и как прекрасно надо действовать по-новому.
К моему сожалению, эти лекции и книги очень сильно отдалили меня от женской половины моей семьи, поскольку за каждой главой о правильном воспитании и вылюбливании ребенка я находила слой своих внутренних претензий, детских обид и ощущения какой-то обделенности, несправедливости. Они-то всей этой мудрости не знали, и вот – мы выросли поломанными. Как хорошо, думала я, что мы теперь знаем как правильно, и наши-то дети будут обладать крепкой внутренней опорой, уверенностью в себе и безупречно успешным будущим (спойлер – нет, вдохновленные лекциями и желанием сделать наоборот мы растим поколение эгоистов, способных разрушиться от любого “нет”).
Вдруг меня передергивает от стыдного воспоминания: как первый и единственный раз я покинула родной город, не попрощавшись ни с мамой, ни с бабушкой. Мы тогда поссорились в хлам, так, что стены дрожали от моих криков. Я орала на бабушку, теряя последние остатки контроля, потому что она, по-своему мягко, но при этом прямолинейно, пыталась внушить мне важность строгости: “Нельзя распускать ребёнка, нельзя бежать по первому зову, нельзя потакать всем капризам”.
Помню своё лицо – впалые щеки, огромные темные мешки под глазами, сжатые губы – в запотевшем вагонном окне этого же поезда, только следующего в обратном направлении. Лицо со следами злости, обиды, отчаяния, хронического недосыпа и перманентной тревоги. Рядом спал мой годовалым сын, этот упитанный пирожок, с которым я тогда чувствовала себя такой правильной, такой гордой и такой одинокой. А ещё – очень, очень усташей. Ведь где-то в глубине души я правда ощущала, что всего за год своей жизни он сделал моё существование катастрофически тяжелым, но не потому что плохо спал или часто болел, а потому что я не могла доверить присмотр за ним никому, кроме себя.
В вагоне тогда пахло чем-то тяжёлым, вроде как перегретым железом, осевшей пылью и прелым бельём. Я смотрела в окно, на чернеющий лес за стеклом, и сжимала кулак так крепко, что ногти впивались в ладонь. Была уверена, что уезжаю «по-взрослому», что я строю новые границы, защищаю свои принципы, спасаю себя и своё материнство. По факту – просто убегала.
Стыдно. Стыдно за свою глупость и околдованность новомодными концепциями. Стыдно, что бабушка в первую очередь защищала меня от моих же разрушительных идей. Я стряхиваю это воспоминание и цепляющиеся за него колючие мысли, как крошки от детского печенья с бархатных штанов. За окном уже темнеет. Скоро наша станция. Поезд стоит всего две минуты – надо торопиться.
Проводница с лязгом открывает дверь вагона. Грохочут складные стальные ступеньки, и с порывом холодного вечернего воздуха на меня обрушиваются привычные и успокаивающие запахи. Здесь по-родному как-то топятся бани и жгутся костры, по-другому пахнут лес, дорога, травы. Пахнет домом.
Папа, как всегда, встречает меня у вагона с тем же неизменным хитроватым взглядом и довольной улыбкой: будто я всё ещё та нескладная девочка-кузнечик с огромным рюкзаком за спиной, приехавшая после первой сессии на каникулы. Расплываюсь в ответной улыбке, и тут же, при взгляде на отца, просыпается Большая Тревога привычно сжимает горло, шепчет – “ты не справилась, и они об этом узнают” но я отмахиваюсь – не сейчас. Решаю, что завтра первым делом надо будет наведаться к бабушке.
Момент 2
Утром просыпаюсь от звука работающей кофемашины и сразу улавливаю запах папиного фирменного омлета. Последние годы он взял на себя обязанность готовить завтраки, и, судя по всему, невероятно кайфует от этой зоны ответственности. Так что теперь, когда бы я ни приехала, папин омлет на завтрак – это ещё один островок стабильности, который сообщает о том, что несмотря на все тревожащие, пугающие и сбивающие с ног события у меня есть дом, где по утрам пахнет горячим, по-волшебному пышным омлетом с молоком и ещё чем-то секретным.
Топаем вниз. Лёшка – так зовут моего сына – заглядывает в стоящую на плите сковородку и тут же теряет к ней интерес.
– Не хочешь?
Он пожимает плечами, кривит губы.
– Можно я не буду?
– Почему? Ты же любишь яйца.
– Люблю. Но я хочу кашу. Овсяную.
– Но дедушка уже приготовил завтрак.
– Ну пожалуйста!
Закатываю глаза, глотаю подкативший к горлу ком раздражения, с трудом останавливаю процесс превращения мыслей про маленького избалованного засранца в слова. С ним всегда так, он вырос неудобным ребенком, который не ест только потому что дают и уж тем более не ест из вежливости или уважения. Только если хочется.
Ладно, каша так каша. В конце концов, это тоже полезный завтрак. Открываю холодильник, ящик с крупами – овсянка на месте, масло есть. Ставлю кастрюлю с крупой и водой на плиту, кидаю щепотку соли. Папин омлет остывает на плите.
– Давай я тебе омлета чуть-чуть положу, пока каша варится? – пытаюсь примирить два мира.
– Нет, – бурчит он, уткнувшись лбом в коленки. – Я подожду.
Стою и помешиваю кашу, и мысли мои закручиваются в воронку, как вода с крупой под воздействием ложки. Мой сын может себе позволить хотеть своего, а не то, что есть, и я его в этом поддерживаю. Но не слишком ли сильно? В родительском доме всегда обостряются воспоминания, и я думаю о том, что никогда не просила маму приготовить что-то другое, если в доме уже есть еда. Но вот буквально вчера я открывала холодильник и понимала, что не хочу ничего из того что есть. То есть, буквально, живот урчит, кушать хочется – но всё, что находится в холодильнике, не вызывает абсолютно никакого отклика от моего аппетита. Бесцельно скроллила ленту доставки, ходила по магазину и покупала продукты не потому что хочу именно это, а потому что человеческое тело надо кормить. Хмыкаю, представив, как бы отреагировала бабуля на мои сытые московские капризы: суши не хочу, пицца набила оскомину, тост с авокадо и лососем на завтрак – пресная обыденность.
Вспоминаю, как она рассказывала о своём голодном детстве.
***
Перед глазами появляется желтый деревянный домик, в котором росла бабушка. Он стоял на самой окраине Лысьвы, нашего заводского города, который всегда – и по сей день, оживает и начинает трудиться с воем трубы. Что такое “труба зовёт” они, да и все выросшие в нашем городе дети, знали буквально. Во дворе растет старая груша – кривобокая, с тонкими ветками, которые едва держат плоды; летом дети лазали по ним, шуршали листвой, устраивали там гнезда и рвали кислые, вяжущие грушки прямо с веток, часто не дожидаясь их полного созревания. Как в кино, картинка приближается, и вот я уже вижу внутреннее убранство дома.
Центр притяжения – круглый стол, на нём лежит скатерка с вышитыми гладью цветами по краям, и почти никогда не стоит ничего съестного, естественно, за исключением обеда и ужина. Зато за ним часто сидят домочадцы – кто-нибудь из шестерых детей учит уроки, или мать, ещё молодая, но очень уставшая, шьет детские сорочки, вышивает, поправляет пяльцы, вяжет, вытягивает нитки. С вечера кладет на стол несколько свежесвязанных панамок и стопку сорочек, которые утром, ещё до зова трубы, унесёт на рынок, чтобы успеть до смены в саду выручить хоть немного денег, которых вечно не хватало в тяжелые послевоенные годы.
С утра Лариса, старшая дочь, спешно затянет лентами косы и, не позавтракав, убежит в школу наперевес с хлопающим по бедру портфелем. Жили они в поселке, поэтому дорога до школы весной уходила в размытую грязь и глину, а зимой покрывалась хрустким настом. Идти надо было быстро, но осторожно – чтобы не испачкать комьями летящей из-под ног грязи школьную форму; и при этом уверенно, чтобы не искушать местных собак, которые иногда собирались в голодные стаи. Если приходилось добираться ещё по темноте – на Урале зимой светлеет поздно, – Лариса пела себе комсомольские песни, чтобы бодриться.
К обеду, если повезёт, в школу придёт брат Юрка и осторожно поманит к себе. Это будет означать, что мама вернулась с рынка и принесла купленные на вырученные деньги хлеб, маргарин и сахар. Это будет также означать, что сегодня удастся перекусить этими роскошными бутербродами с маргарином и сахаром. Есть они их будут быстро и тихо, прячась где-то за школой, потому что это уже больше, чем доступно многим.
После школы Лариса, убедившись, что дома все младшие накормлены, умыты и заняты делом, убежит играть во двор. Там всегда шумела большая, разношёрстная шайка – дети с соседних домов и улиц, все как один худые и нескладные, но весёлые.
Они отправятся на своё любимое место: в конце одной из улиц лежали в беспорядке сдвинутые старые брёвна – остатки какого-то ненужного сарая, давно сгнившего под дождями. «На брёвнах» собирались всей гурьбой, особенно в голодные дни. Там было можно сидеть часами, слушать, как Лариса рассказывает свои истории, чтобы отвлечь ребят от урчащих животов. Она выдумывала сказки прямо на ходу – про хитрую, но добрую лису, которая ворует кур из деревни и делится добычей с лесными братьями; про детишек, которые находят в заброшенном летнем доме раскулаченного помещика богатый клад. Временами замирала и смотрела в небо, подбирая новые слова и находя неожиданные повороты сюжета, и все замирали вместе с ней. Порой рассказ прерывал чей-то особенно громкий и требовательный живот, и тогда его юный хозяин клал ладонь на рубашку, будто можно унять пустоту прикосновением.
Иногда Лариса тащила домой двоих-троих ребят, усаживала за тот самый круглый стол и ставила на плиту кастрюлю с последним супом. Суп был жидкий, мама называла его «похлёбкой», но и он казался ребятам богатством. Вечером мама возвращалась с работы, устало развязывая косынку и снимая грубую обувь, открывала холодильник и вздыхала так, что воздух в кухне густел. Лариса знала, что сейчас будет нагоняй: в доме шестеро своих ртов – куда ещё чужих? Но всё равно смотрела матери в глаза упрямо и почти счастливо, как бы говоря этим пронзительным взглядом своих светлых голубых глаз: “пусть лучше в животе пусто, но на сердце тепло”.
***
Кажется, я задумалась, и каша слегка подгорела. Быстро переставляю кастрюльку с горячей конфорки на холодную, выбираю кашу сверху, кладу на тарелку. Захватываю тарелку с омлетом – себе. За столом о чем-то тараторит уже заждавшийся Лёшка, в окне мелькает мамин силуэт. Такая рань, а уже что-то делает в огороде. Папа, судя по звукам, возится где-то в гараже. Здесь так всегда: выходной, но каждый с самого утра занят своим делом. А кухня, когда в доме гости, не пустует практически никогда – завтрак тут может плавно перетечь в обед, потому что всё время кто-то приходит попить чай, и начинаются долгие захватывающие разговоры.
Как будто в ответ на мои мысли на кухню заходит мама: она принесла свежую мяту, чабрец и листья смородины для чая. Я с аппетитом наслаждаюсь папиным омлетом, вспоминая вчерашние терзания и искренне удивляясь тому, почему здесь спится так сладко и естся так вкусно.
– Маш, я позвонила бабушке. Она скоро придёт сама, обещала настряпать шанег.
– Ура, шанежкииии! – Лёша, уже покончивший с кашей, вскакивает со стула и затевает радостный танец.
Сын очень любит шаньги – старинное традиционное коми-пермяцкое блюдо, по сути, булочки с картофельным пюре. Шаньги в нашей семье готовит только бабушка, это её фирменная стряпня, от воспоминаний о которой слюнки текут у всех внуков и правнуков.
– Лёшка, – продолжает мама, – сходи в огород, набери клубнички. Помнишь, где растёт?
Лёша довольно кивает, в нетерпении подпрыгивая. Мама достает для него глубокую эмалированную тарелку с голубой каймой и какими-то фруктами, нарисованными на донышке. Тарелке этой лет тридцать, если не больше, но кроме одного скола на крае ничего не выдает её возраст. Вечная штука, сделанная когда-то в нашем городе, на знаменитом тогда на всю страну заводе эмалированных изделий. Кажется, такая тарелка есть в каждом доме нашего края. И кажется, именно в эту тарелку я и сама в своё время собирала клубнику у бабушки в саду. Глядя вслед довольно ускакавшему в огород ребенку вспоминаю, как буквально на днях у нас на столе закисла дорогущая, крупная и яркая клубника из супермаркета.
Момент 3
Мы сидим с мамой на кухне, напротив друг друга, чашки с чаем горячие, и чай этот пахнет летом, домом и безопасностью. А чисто технически – мятой, чабрецом и смородиновым листом. С первым глотком начинают течь такие привычные домашние разговоры обо всём и ни о чём: какие у нас планы, как собираемся провести мини-отпуск, как дела у каждой из нас. Это один из немногих моментов, когда, кажется, содержание совсем не так важно, как сам факт разговора – вот мы здесь, рядом, и можем в полной мере насладиться живым присутствием друг друга. Мама видит, что я чем-то то ли озадачена, то ли расстроена. Но пока тактично и осторожно обходит эти темы вокруг, зная, что я сама всё расскажу. Какая у меня мудрая мама.
Я отхлёбываю чай, замечая, что кружка почти пустая, а я так и не успела распробовать и понять его вкус, настолько моё внимание рассеяно разговором, мимолетным поглядыванием в окно – как там Лёша – и вышеописанными мыслями. Стараюсь собрать внимание в пучок и попробовать задержать вкус чая во рту чуть дольше обычного. И тут же опять уплываю, думая, как мне повезло иметь в своей нестабильной жизни такой вот островок привычного, родного, и как будто бы вечного. Мои мысли прерывает топот босых пяток – в кухню влетает Лёшка, гордый и счастливый, с полной тарелкой клубники в руках…
– Бабушка, а где яблочки? – выпаливает он, даже не переступив порог кухни.
Мама улыбается:
– Яблочки будут в августе, Лёшенька. Рано ещё.
Ощущаю привычный укол легкой жалости в сердце – у сына на яблоки аллергия, но почему-то именно на эти, мамины садовые, её нет. И он, конечно, это помнит. При условиях абсолютного изобилия и доступности любых фруктов в его жизни, хочет он только их – бабушкины яблоки. Вдруг вспоминаю, как недавно мы с сыном на прогулке слушали аудиокнигу «Том Сойер», разделив наушники напополам. Тогда Лёшка удивился: