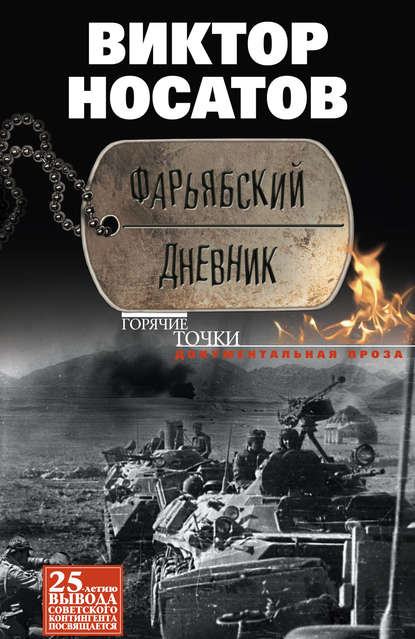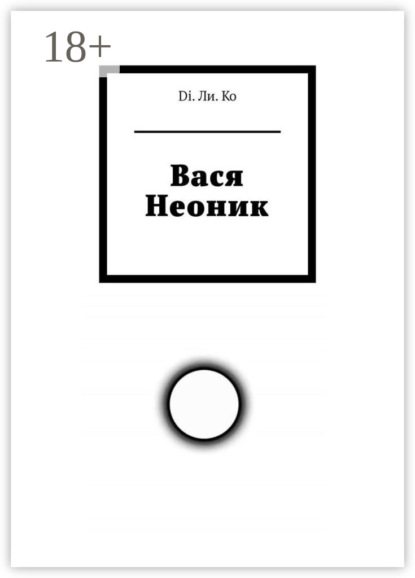- -
- 100%
- +
Это был мужчина неопределенного возраста в совершенно обыкновенной одежде серых тонов, какую носит подавляющее большинство населения, будто осень выкачивает все краски и из людей. Обычный, если бы не одно но: он не шагал, а, скорее, поочередно выбрасывал ноги вперед и потом, слегка присев, подтягивал за ними все тело, причем его голова оставалась на одном и том же уровне, а не качалась вверх-вниз, как при обычной ходьбе. Руки его безвольно висели вдоль тела, покачиваясь во время ходьбы, словно набитые ватой. Вообще он напоминал марионетку, у которой управляют только ногами. Что-то в этом всем настораживало, и Вероника прибавила ходу.
А шаги тем временем становились все ближе и громче, эхом отскакивая от стен. Топ. Топ. Топ. Топ.
Вот только странных типов не хватало. Вероника поежилась и осмотрелась. Вокруг – ни души. Даже для Вероникиного района это было странно. И окна все какие-то глухие, то ли зашторенные, то ли заставленные чем-то. Безлюдные все, брошенные. И свет нигде не горит, хотя еще достаточно темно. Кстати, Вероника даже не заметила, когда так резко потемнело. Не может же быть такого, чтобы абсолютно все квартиры пустые!
Вероника вдруг поняла, что не узнает этого места, хотя ходит здесь каждый будний день. Уже который раз проходит мимо одной и той же машины, покрытой серым запылившимся брезентом. Никогда ее не видела, а ведь, судя по состоянию, этой недвижимости несколько лет.
Вероника обернулась. Мужик догонял, приближаясь с какой-то бешеной скоростью, слишком высокой для такого способа ходьбы. Только сейчас Вероника разглядела, что на его невыразительном лице сидит жуткая широченная улыбка, будто кто-то насильно растянул губы коффердамом или чем-то вроде того. Смотрел мужик прямо на нее.
Тут Вероника не выдержала и побежала со всех ног, стараясь не думать о тотчас же нарастивших темп шагах. Топ-топ-топ-топ. Сквозь одинаковые переулки, между одинаковыми домами, быстрее.
В который раз пробежала мимо закрытой брезентом машины. Воздуха в легких уже не хватало, в боку кололо с непривычки. Веронике показалось, что шаги сзади стали тише, она обернулась и действительно никого не увидела. Задыхаясь, она сообразила, что можно спрятаться за накрытой машиной, подождать, пока преследователь протопает мимо, если вообще покажется, а там…
Едва протиснувшись между машиной и заборчиком, отгораживающим газон, и, кажется, испачкав куртку, Вероника скрючилась в три погибели, стараясь не дышать слишком шумно, что выходило, прямо скажем, плоховато. Ей не было видно дорогу, и Вероника очень надеялась, что и саму ее нельзя разглядеть.
Топ. Топ. Топ.
Он все-таки шел по ее следу. Вероника зажмурилась, а потом резко распахнула глаза и прислушалась. Шаги затихли. Но не потому, что преследователь ушел, а потому что остановился.
Вероника никак не могла унять дыхание, сердце колотилось где-то у самого горла. Она боялась выглянуть из-за машины, чтобы не обнаружить себя. Но она напрасно надеялась, что хорошо спряталась: стоило только повернуть голову влево, как стало ясно, что ее попытка укрыться от человека-марионетки просто идиотская.
Он стоял прямо напротив, сбоку от машины, с тем же растянутым в жуткой улыбке лицом, и смотрел. Ждал, пока она его заметит. А как заметила, сразу покачнулся, будто завелся механизм, и двинулся к ней, четко печатая шаг: топ, топ, топ. Хотя на его лице, несмотря на эту страшную улыбку, не было никакого выражения, Вероника точно знала, что он доволен, что предвкушает что-то очень приятное для себя, но это что-то смертельно опасно для нее.
Раньше ей это не пришло в голову, потому что она совершенно не религиозна. Не атеистка, конечно, но в обычной жизни никогда о вере не задумывалась. А сейчас откуда-то вспомнила молитву, только вместо «аминь» шептала про себя: «Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!» Рванула из-за машины и помчалась в обратную сторону, не вперед, а туда, откуда бежала, – к дому.
И бежала, и бежала, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста.
Вероника осознала, что все позади, только когда чуть не столкнулась с женщиной в малиновом берете. Наконец остановившись и судорожно вдыхая холодный воздух, огляделась. Нормальная светлая улица; ее, Вероники, родная улица, между прочим, с нормальными светлыми домами и нормальными людьми. Вероника все не могла понять, откуда она вообще прибежала и как умудрилась заблудиться. Какой-то молодой человек спросил, все ли у нее в порядке, настолько плохо она, видимо, выглядела. Она даже смогла отказаться от помощи, но шла рядом с людьми, только не домой, а на работу. Ей казалось, что если за ней кто-то и следит, то нельзя приводить его к дому.
Слишком напуганная, да и вообще всегда не слишком откровенная с чужими людьми, Вероника никому про странное происшествие не рассказала.
Плеер, оказывается, работал нормально, с батареей было все в порядке, зарядка – почти сто процентов. Правда, после включения и недолгой работы ради проверки она тут же разрядилась в ноль, но такое могло случиться из-за холода.
Ординарный рабочий день прошел, как пролетел, вообще ничего нового. Разве что случилось просто невероятное везение: коллегу по работе вечером забирал муж на машине, и Веронике было по дороге с ними, так что ее довезли прямо до подъезда.
«Это были обычные дни, – говорила мне Вероника, – во время которых я работала, по улицам ходила, в транспорте ездила, ела, в уборной бывала. Не одно и то же делала, понимаешь? Это не день сурка. Я просто обычно жила!»
Вероника встала, как обычно, по будильнику. Завтракать не хотелось, но Вероника буквально насильно запихнула в себя бутерброд и запила его молоком из холодильника.
Лифт снова пришлось дожидаться, и Вероника даже не удивилась, когда увидела в приехавшей кабине соседку сверху. Просто опять совпали по времени, так часто бывает, когда лифт в подъезде один. Но тут Вероника испытала сильнейшее чувство дежавю – соседка начала разговор теми же фразами, с той же интонацией, что и вчера. Рассказала про цветущий кактус, и Веронике пришлось сделать над собой усилие, чтобы не ляпнуть, что она уже знает про это. Тоже объяснимо, ведь соседка могла забыть, кому уже сообщила о своем цветке. Казалось бы, мелочь, но почему-то этот невинный разговор всколыхнул воспоминания о вчерашнем неприятном происшествии.
Попрощавшись с соседкой у подъезда, привычным жестом достала наушники, но на полпути передумала. Теперь шла и смотрела вокруг, прислушивалась. Все вокруг было знакомым, обычным. И тут Веронику как стукнуло: действительно, стоит покрытая брезентом машина, та самая, мимо которой она вчера много раз проходила и за которой пряталась. Только вот в привычном мире на этом месте всегда располагалась помойка!
И вдруг откуда-то из-за спины послышался звук распахнувшегося окна, и на улицу вырвалось приглушенное: «Где ты? Где ты?» Старючая песенка «Инфинити», бодренькая такая, электропоп, и из всех слов помнится только этот вот припев… Только у «Инфинити» это танцевальная мелодия, а тут был какой-то заунывный ремикс, что ли, к тому же мужским голосом.
Вероника помнила, что делать: надо бежать, просто бежать вперед не оглядываясь. Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста! Это и правда помогло!
Только вот рабочий день провела как в тумане, постоянно делала досадные мелкие ошибки, вздрагивала от любых шагов, хотя сама не понимала, почему так реагирует. Ждала постоянно какую-то пакость.
Когда возвращалась после показавшегося слишком длинным рабочего дня привычным путем – а по-другому никак не получилось бы попасть домой, – старалась идти вместе с кем-то, даже специально подождала какого-то пенсионера с сумкой-тележкой и палочкой, который ковылял себе не спеша. Вероника – за ним, строго соблюдая темп и дистанцию. К счастью, дедушка благополучно ее не заметил и не заподозрил преследования.
Помойка оказалась на своем законном месте, незыблемая и пропитанная помоечными запахами; никакой машины ни вместо, ни около не было припарковано, но рядом с мусорными баками валялось знакомое в своей жути, скомканное и, похоже, давно в таком виде пребывающее, полотно брезента… И Веронике даже показалось, что ковыляющий перед ней пенсионер незаметно изменил походку и теперь не подшаркивал, а вполне себе четко ступал. Топ. Топ. Топ.
И во дворе эхо этих неожиданно четких и звонких шагов начало окружать Веронику со всех сторон. Топ. Топ. Топ. Топ. Топ-топ. Топ-топ. Топ-топ. Топ-топ. Топ-топ-топ-топ.
Не выдержав, она опять побежала, обогнала пенсионера, не смея даже взглянуть на его лицо, хотя краем глаза все же невольно скользнула… Этот человек очень-очень, очень широко улыбался…
Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!
Дома Вероника думала и думала весь вечер. Она словно попала в чью-то игру, в сценарии которой очень четко прослеживалась связь между повторяющимися действиями и ситуациями с песней и странным мужиком. Она совершенно точно знала, что если бы тогда эта «марионетка» догнала ее, то однозначно все закончилось бы Вероникиной смертью. И что ни в коем случае нельзя было прятаться, останавливаться – только бежать. Неизвестно, откуда была такая уверенность.
Поэтому следующим утром Вероника даже не завтракала, вышла пораньше, но лифт каким-то непостижимым образом опять пришлось ждать слишком долго. Приехал он, конечно, с той самой соседкой с верхнего этажа. Вероника заколебалась, но потом все-таки зашла в кабину лифта, чтобы после очередной той же самой новости про зацветший кактус – «Сегодня зацвел, представляете!» – доехать до первого этажа и… вернуться на том же лифте в свою квартиру. Едва скинув обувь и прямо на пол швырнув куртку, добралась до кровати, решила начать свой день прямо с самого начала даже под угрозой опоздания и…
И проснулась.
В своей кровати, по будильнику. Теперь по-настоящему.
Так это был сон! У нее получилось поиграть в иную реальность!
Словно бы назло предчувствиям, обрадованная, что ее напугали всего лишь сновидения, Вероника нарочно стала повторять свои действия, теперь осознанно: сделала яичницу на завтрак, даже оделась так же.
Пока ожидала лифт, наконец решила проверить свою куртку и обнаружила на ней засохшие мазки грязи. Но ведь она могла, учитывая слякотную погоду, испачкаться когда угодно и где угодно и не заметить, куртка-то черная.
Не могла…
Снова вернувшись от лифта в квартиру, или не снова, а по-настоящему первый раз, Вероника позвонила на работу и соврала, что прорвало трубу на несколько квартир и теперь она ждет аварийку. Только такой предлог мог показаться ее начальству достаточным основанием для пропуска рабочего дня – болезни вообще не считались уважительной причиной, разве что ты попал в больницу.
А соседку с верхнего этажа, у которой расцвел кактус (а может, и не расцветал, теперь нельзя быть уверенным), тем же утром на почве ревности насмерть прирезал ее парень. Напился, и переклинило его. Потом выбежал на балкон и хохотал, и топал ногами, и орал: «Где ты? Где ты?» Вероника сама слышала. Соседи и вызвали милицию, думали – чтобы угомонить пьяного, а оказалось по факту, что милиция приехала на место преступления…
– У меня ощущение, что то ли я спаслась за счет соседки, то ли накликала смерть на ни в чем не повинную девушку, потому что прервала эту цепочку, этот день, последний ее день, когда она живая была, но ей ничего не сказала. Оставила ее в этом дне, привела к ней смерть, – говорила мне Вероника.
– Сомнительно это… Мне кажется, ты себя накручиваешь.
– Может, я ее туда даже и затащила, в свой сон. Может, я вообще сплю до сих пор…
– Ну, вообще-то не спишь, потому что я же не сплю.
Я попыталась успокоить Веронику, взяла ее за руки, нормальные человеческие руки, и даже потрясла ими для убедительности, но подружка досадливо поморщилась:
– Да откуда же мне знать, может, и ты мне сейчас опять снишься? Видишь руки мои? А вдруг он не работает, этот маячок? Вдруг я в любой момент снова могу провалиться в тот сон, и тогда мужик, который ищет, кого бы убить, меня догонит? Мне все время кажется, что я какой-то момент упустила, проспала.
А потом вдруг Вероника замерла, оборвав себя на полуслове, и вытаращила на меня глаза:
– Ты не спишь, я не сплю… Где гарантия вообще, что не было никакого «астрального», специального сна, а есть просто обычная жизнь, и все произошло тоже в нашей реальности?! Ведь каждый из тех дней был совершенно не похож на другие, кроме повторяющейся мелодии, преследователя и несчастной соседки в лифте. Сколько раз мы ходим одним и тем же маршрутом, но в упор не замечаем какие-то вещи? Я выхожу с работы и начинаю сразу молиться, хотя никогда так раньше не делала. Произношу, как мантру. Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, не надо!
Но моя подружка никогда не была похожа на сумасшедшую, ни до этого случая, ни после. Окружающие обязательно заметили бы странности, хоть какие-то. Нельзя же так долго быть сумасшедшим совершенно незаметно для окружающих! Или можно?..
Можно ли затащить в свое сновидение, называй его как угодно, другого человека? Ребенка, которого легче всего заморочить, обмануть, он меньше всего будет сопротивляться, – просто потому, что одному в этом сне страшно и ты не знаешь из него выхода, а кто-то другой, особенно такой невинный, вдруг да и покажет дорогу обратно. А если и не покажет, то вдвоем уже не так жутко.
Я не стала пробовать погрузиться в другую реальность с помощью Вероникиной методики, даже ради интереса… Но потому ли, что оказалась умнее, или потому, что уже нахожусь там?..
И не замечаю многого абсолютно сознательно, ради своего же спокойствия.
Вероника страдала, что втянула в свой неправильный мир соседку и тем самым способствовала ее трагической гибели. А я подумала: не случилась ли вся эта история с моей подругой только потому, что мы с ней дружим? Хватило же ума у Вероникиного бывшего ничего на себе не испытывать. Просто я с ним никогда не общалась, так уж странно вышло. Что, если это его спасло?
Здорово было бы однажды проснуться и понять, что все закончилось. Что, может, и не было ничего на самом деле.
Но я не сплю.

Глава 6

«На новом месте приснись жених невесте».
Так советовала говорить перед сном, в шутку ли, всерьез ли, бабушка, когда мы отправлялись в дальние поездки из дома с ночевкой. Учитывая, что я была совсем мелкая, совет думать о женихах – самый дельный, я считаю, ибо позже уже времени на подобные глупости совсем не остается. Но я так ни разу и не гадала на сон, потому что стабильно на новом месте меня преследовал один и тот же кошмар. Где-то после рождения моего братика он совсем прекратился, перестал сниться, но, маленькая, я ожидала его, боялась и, наверное, провоцировала, сама того не понимая. В общем, я тогда вообще не воспринимала это как сон, настолько все было реально. Какие там женихи!
Всегда начиналось одинаково: уже прошло время после того, как меня уложили спать, выключили в комнате свет и светлая полоска под дверью, на которую я, засыпая, смотрю сквозь ресницы, погасла, что означало – родители тоже угомонились. В квартире стало тихо, поэтому я сразу просыпаюсь из-за посторонних, неправильных даже для незнакомого места звуков.
Из темноты, прямо в моей комнате, совсем рядом, зашипели, картавя, шепелявя, подхихикивая, будто подпихивая друг друга:
– Мясная кукла, мясная кукла. Моя, моя, мне, мне мясная кукла!
Я приоткрываю глаза и пытаюсь разглядеть источник звуков, но ничего не вижу. Нет спасительной, обнадеживающей полоски под дверью, шторы не пропускают свет.
Мама говорила, что дома бояться нечего. Сейчас я бы с ней поспорила, но тогда у меня не было повода ей не верить. Хотя это не наш дом, но какая разница – дом везде, где мы располагаемся с родителями, где наши вещи.
Поэтому я, как мне казалось, грозно, будто бы совсем не боюсь, вскрикиваю в темноту:
– Кто здесь?
И оттуда сразу раздается радостное хихиканье:
– Отозвалась! Отозвалась!
Оно все ближе и ближе, и я сжимаюсь под одеялом, накрывшись с головой, затихаю, стараясь не выдать себя, дышу через раз, и меня колотит от страха. Я точно знаю, что это не сон и что даже маму звать нельзя, – она просто не успеет прибежать до того, как я обнаружу себя голосом.
А этот кто-то ходит рядом и нюхает, шелестит, дергает за край простыни…
В какой-то момент меня вырубает, сознание отключается в душном сне, а утром пижама вся влажная от пота, но не от жары, как думают родители, а от страха.
Еще вспоминаю, как однажды проснулась от шепота и случайно открыла в темноте глаза, а надо мной склоняется медленно-медленно какая-то тетенька с очень-очень белыми волосами и очень-очень черными глазами, а широкий рот полуоткрыт, черные губы вытянуты, и она этими губами, ледяными и шершавыми, касается моей щеки – шорк-шорк.
– Вкусненько! Вкусненько! Мясная девочка!
Я зажмуриваю глаза, мне страшно до колик. А потом она уходит, так и не съев меня…
Утром на щеке царапины, как от наждачки, которые мама определяет как диатез; неизвестно, правда, что спровоцировало такую реакцию.
Я рассказываю про мясную куклу, родители переглядываются, и я вижу, что им смешно, хотя они изо всех сил стараются это от меня скрыть. Они не понимают моего ужаса и не верят в реальность этих шептунов, в ужасную тетку.
Родители пытаются все обратить в шутку, взывают к логике: почему же к ним никто не пришел, почему они ничего не слышали?
– Во мне мяса-то побольше! – острит папа.
Но этот кошмар повторяется в каждом новом месте, где мы остаемся на ночевку, и какой-то знакомый педиатр, вроде бы даже с научной степенью, говорит, что это просто реакция психики на перемены в жизни. Это тот самый педиатр, который советовал как можно раньше отселять ребенка в другую комнату, чтобы не формировать зависимость от родителей, поэтому, даже несмотря на мои кошмары, папа с мамой не укладывали меня спать с собой рядом.
Мама вообще так старательно отрицала все ненаучное, необъяснимое, что теперь, видимо, ударилась в другую крайность, притаскивая ко мне экстрасенсов. Или просто вернулась к ней, поскольку трудно быть дочкой тех самых Назаровых и одновременно жить целиком и полностью в материалистическом мире.
И сразу вслед за этим кошмаром вспоминается дурацкий случай с соседкой по дому и ее неудачной попыткой подшутить надо мной, пятилетней. Я была симпатичная, с пухлыми щечками и носом, на который папа постоянно нажимал, как на звонок, и хохотал радостно. Говорил, что мой нос отлично приспособлен для того, чтобы в него звонить, не то что его носище.
Мы с мамой спускались по лестнице, я смеялась и болтала что попало, и поднимавшаяся нам навстречу пожилая соседка так умилилась, что приобняла меня, подтянула к себе:
– За нос тебя цап! Кругленький носик, вкусненький носик!
И раззявила рот, будто действительно собирается куснуть меня, и я видела пожелтевшие зубы с пятнами кариеса, неровные, противные, и толстый язык, покрытый каким-то белесым налетом, и все так необычайно четко и близко, так ужасно страшно, что я заорала что есть мочи, забилась, вырываясь, даже, кажется, ударила ее по лицу.
– Ты что делаешь? – Сквозь собственный ор я едва слышала маму, будто она говорила где-то за стеной. – Простите ее! Да что же ты как ненормальная! Прекрати!
– Ничего, ничего, это ребенок, – примиряюще отвечала соседка, точно так же словно через какую-то вату, которой заложили мои уши.
Она давно отпустила меня, а я все билась, орала, даже сейчас немного стыдно, хотя и соседки этой давно нет в живых, и мама далеко, и мне совсем не пять лет, и никто не может напомнить, укорить, никто, кроме меня самой.
Думаю, они обе, и мама, и тем более соседка, испугались моей истерики гораздо больше, чем я – за свой нос.
А вот Илюшка – он всегда был послушный со взрослыми, даже какой-то покорный. Я бы на его месте…
Никогда бы я не захотела, чтобы кто-то оказался на его месте, особенно сам Илюшка…
А бабушка, как узнала – а узнала буквально сразу, потому что, не помню, по какому поводу, как раз была у нас дома, – долго маму отчитывала, что собственное дитя не бережет и дур глазливых оправдывает. И умывала меня через ручку входной двери, поливая водой из ковшика, что-то шептала в затылок, а потом еще пошла к той соседке, хотя мама чуть ли не на коленях умоляла ничего не предпринимать. Странно, да? Ребенок до истерики испугался, а мама переживала, как бы соседка про нас плохое не подумала. Иногда мне трудно объяснить мамино поведение и реакцию на те или иные события.
«Сама знаю, что шутка, а что нет. Не учи мать!» – отрезала тогда бабушка, собралась и пошла.
Не знаю, что там они между собой разговаривали, только после этого со мной никто из соседей не шутил, просто здоровались, и все.
У бабушки в квартире мне кошмары не снились.
Много-много позже, когда мы с мамой как-то разбирали семейные фотографии, сортируя по альбомам, она показала мне снимок из одной нашей поездки – мы с родителями до рождения Илюшки нередко отправлялись на выходные в какой-нибудь дом отдыха или санаторий неподалеку от нашего города, поскольку дачи у нас не было, или снимали на сутки квартирку в ближайшем недорогом туристическом месте. Тогда еще у нас старались распечатывать фотки, даже сделанные на цифровую камеру.
На фотографии я сидела в каком-то незнакомом месте, прижимая к себе кислотно-синего мягкого зайца. По словам мамы, это была моя любимая игрушка для путешествий, чего я вообще не помнила. Этот заяц, неизвестно как и когда у нас появившийся, дома даже не доставался из чемодана, и я о нем не вспоминала, но, стоило нам куда-то поехать, никакие другие игрушки я с собой не брала. А потом, с появлением Илюшки, частые вылазки пришлось прекратить, они стали не по карману, и заяц куда-то пропал, а может, до сих пор валяется в каком-нибудь чемодане на антресолях или в гараже. Может, от него тихонечко избавился, как это у него водится, папа, когда очередной раз наводил порядок, особенно если зайцу посчастливилось приютиться в гаражных владениях.
Так вот этого зайца и свою любовь к нему я напрочь забыла, и даже фотофакт никак мою память не оживил. Путешествия я худо-бедно помнила, помнила и кошмарные сны, а вот игрушку, которая при этих кошмарах обязательно должна была присутствовать, – нет.
– Ну ты даешь! – удивилась мама. – Все время нам что-то припоминаешь, а тут этого зайца не узнаешь, а ведь он с нами везде побывал. Вот и девичья память. Впрочем, мне он никогда не нравился.
И она небрежно сунула фотографию в общую стопку.
Если с этой страшненькой игрушкой пропали из моей жизни кошмарные сны про мясную куклу, то я точно не хочу ни вспоминать о ней, ни тем более ее искать. Надеюсь, заяц ушел из нашей жизни навсегда. Интересно, правда, с кем и зачем приходил, но выяснять я точно не буду.
В общем, с игрушками что-то у меня с самого начала не задалось…
Так вот, про Ленины сновидения.
Лена ощущала себя музой человека гениального и одинокого в своей гениальности, непонятого презренной толпой обывателей, стоящего слишком высоко, чтобы унижаться до бытовых проблем, а потому выбравшего именно ее своим доверенным лицом, самым близким и верным. Разумеется, гораздо приятнее и благороднее ощущать себя выше других, избранной, не серой массой, чем принимать настоящее, где у тебя всего лишь роль бесправной прислуги при выпивохе-балбесе.
Впрочем, она была взрослой женщиной, и если ей нравилось играть в эту игру, то никто не мог ей помешать.
«Ленка-а-а!» – орал из ванной отмокающий непризнанный гений и прошловековой вождь, и она мчалась его обслуживать.
Он любил, не вылезая из воды, похлебать сладкого чаю и почитать свежий литературный журнал, поскольку мнил себя интеллигентом, не чета соседям, то есть, по его мнению, советскому быдлу. Журнал не выписывал, конечно, его приносила Лена от своих родителей.
Я его побаивалась всегда, в отличие от других соседей, хотя при бабушке он никакого повода не давал. Просто игнорировал меня при случайной встрече в коридоре или на кухне, даже не здоровался в ответ. А если замечал, то морщился, словно я была какой-то неприятной помехой, недостойной его высочайшего внимания.
Да и видела я его нечасто, потому что он был еще до Илюшкиной болезни, то есть когда я редко гостила у бабушки.
Однако даже эти случаи оставляли неприятно сосущий тревожный осадок, когда чувствуешь себя разбитой и заболевающей, а потом все раз – и проходит.
Умер Ленин муж очень банально и ожидаемо для человека, злоупотребляющего алкоголем: появившиеся непонятные ощущения в груди лечил обильными возлияниями, в какой-то день «забархатил» пиво водкой, сел перед телевизором и скончался на месте от инсульта. Телевизор продолжал работать, а его расслабленную позу в кресле можно было легко принять за обычный для него пьяный сон. Лена не сразу и поняла, что что-то не так с мужем…