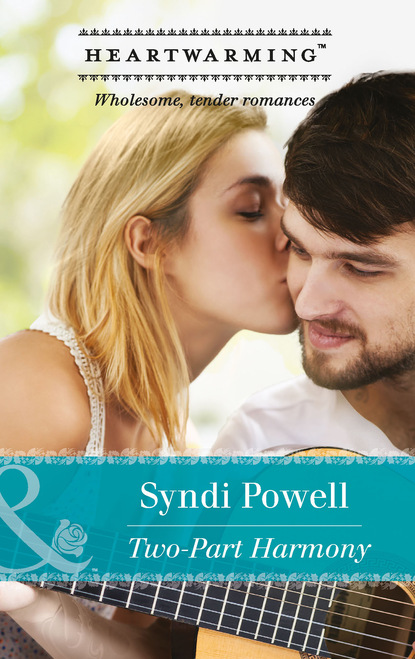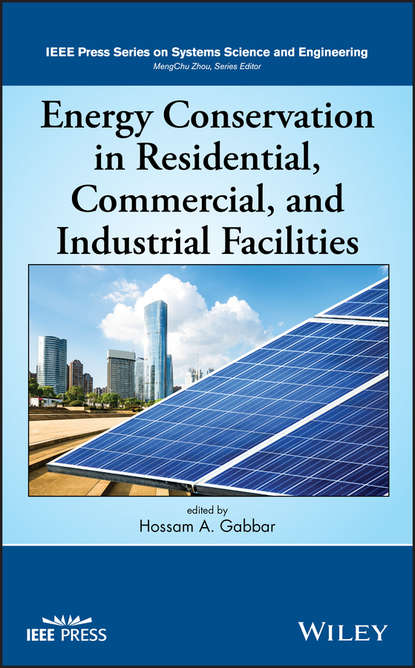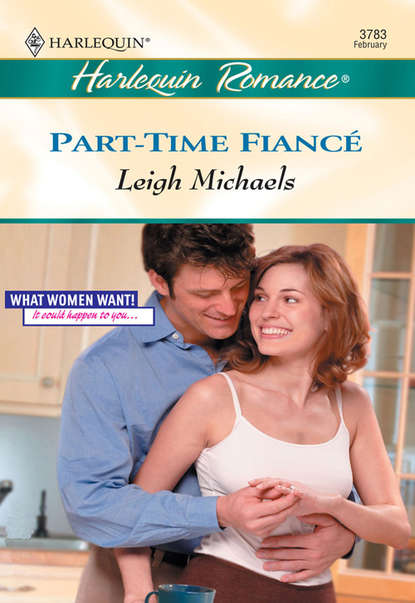- -
- 100%
- +

Пролог
Октябрь. Маяк «Морская Кость». Вечер опустился на остров свинцовой пеленой, приглушив даже ропот прибоя. Джерси Маколи, вернувшись с обхода, застыл в дверях кабинета. На его рабочем столе, там, где всегда лежали только карты, журналы да кружка с остывшим чаем, лежал предмет, которого там быть не могло.
Вечер опустился на остров свинцовой пеленой, приглушив даже ропот прибоя. Джерси Маколи, вернувшись с обхода, застыл в дверях кабинета. На его рабочем столе, там, где всегда лежали только карты, журналы да кружка с остывшим чаем, лежал предмет, которого там быть не могло.
Прямоугольная коробка из грубого серого картона, перевязанная простой бечевкой. Ни марок, ни штемпелей. Только его имя, выведенное на крышке химическим карандашом – крупно, угловато, будто писали на весу: «ДЖЕРСИ МАКОЛИ. МАЯК “МОРСКАЯ КОСТЬ”».
Он обошел маяк по периметру полчаса назад. Никого. Катер не приходил с середины недели. Коробка была сухой, чистой, будто ее принесли не сквозь осеннюю морось и соленый ветер, а материализовали прямо здесь.
Он положил фонарь, сел в кресло. Бечевка развязалась туго, узлы были затянуты крепкой морской петлей. Внутри, на слое древесной стружки, лежали два предмета: тяжелая деревянная рамка под стеклом и сложенный втрое лист плотной бумаги.
Письмо пахло пылью и чем-то еще – слабым, угасшим запахом угольного отопления и старой кожи.
«Уважаемый мистер Маколи,
Обнаружил эту фотографию среди вещей моего покойного отца, также служившего смотрителем. На обороте – подпись вашего отца и дата. Решил, что семейная реликвия должна вернуться к вам.
С уважением,
Сын смотрителя.»
Джерси положил письмо на стол. Его пальцы потянулись к рамке. Он перевернул ее.
И мир на мгновение остановился.
Отец. Мать. Майкл. Дэниел. Он сам, пятилетний, с серьезным, немного испуганным лицом. Все на фоне знакомых гранитных плит «Морской Кости». Лето 1958-го. Он помнил этот день. Приезд фотографа, неловкие новые рубашки, мамин пирог, который потом ели на кухне. Но у него не было такой фотографии. В альбомах были другие снимки – любительские, размытые. Этот же был идеальным. Официальным, парадным, каким-то… итоговым.
Он не узнал почерк на обороте, хотя там было выведено чернильными чернилами: «Семья смотрителя Элиаса Маколи. Август 1958. “Морская Кость”». Почерк был слишком аккуратным, каллиграфическим, непохожим на угловатый почерк отца. Но разве отец не мог постараться для такого снимка?
Джерси поставил рамку на полку у окна, чтобы свет от лампы падал на нее. И сел смотреть.
Сначала он просто разглядывал детали: складку на отцовской тужурке, бант в волосах у матери, смешную не по размеру кепку на Майкле. Потом его взгляд стал возвращаться к Дэниелу. К его живому, насмешливому взгляду, направленному куда-то мимо объектива. К непослушной пряди волос. Он водил пальцем по холодному стеклу, останавливаясь над его лицом.
«Где же ты теперь, брат?» – прошептал он в тишину кабинета, как делал это мысленно много лет. Но теперь у него был перед глазами не смутный образ памяти, а четкое, документальное подтверждение: Дэниел был. Вот он. Запечатлен.
Такой фотографии у него не было. Только смутные копии в альбомах. А эта – как живая. Как свидетельство.
Он поставил рамку на полку под лампой, сел в кресло и смотрел. Минуту, пять, десять. Разглядывал каждое лицо, каждую складку одежды. Сверялся с памятью. Да. Все так. Все правильно.
В груди расправилась теплая, спокойная тяжесть. Якорь. Доказательство.
Он кивнул сам себе, потушил лампу и пошел спать. Завтра – обычный день. Проверить механизм, записать в журнал, следить за огнем. А фотография будет здесь. На своем месте.
Все было на своих местах.
Глава 1: Трещины в стекле
Воздух в башне «Морской Кости» имел свой, ни на что не похожий вкус и плотность. Он был густым, как холодец, сваренный из столетий морской соли, въевшейся в гранит, ржавого железа балок, ворванного масла для хитроумных механизмов и неподвижного, застоявшегося одиночества. Шестьдесят пять зим – целую человеческую жизнь – провел Джерси Маколи в каменных объятиях этого исполина. Сперва мальчишкой, болтающимся под жестким, неразговорчивым крылом отца, потом – подмастерьем, и наконец – полноправным смотрителем, последним в династии Маколи, что держала огонь на этом одиноком клочке суши с 1887 года.
Его день был размерен и точен, как ход отцовских карманных часов, что теперь тикали на его прикроватной тумбочке. Подъем на рассвете, когда первые багровые лучи били в 392 призменных стекла линзы Френеля, зажигая в них призрачное, разноцветное свечение еще до того, как гасла ночная лампа. Проверка стекол на отпотевание и соль – каждый день, без исключений. Запись в вахтенный журнал округлым, каллиграфическим почерком, унаследованным от матери: «5:47. Восход. Ветер норд-ост, 5 узлов. Видимость отличная. Пятно на горизонте – вероятно, сухогруз «Северянин». Дальняя прогулка по скрипучему, пропитанному солью и облезлой краской причалу, взгляд на линию горизонта – привычный, оценивающий, почти интимный, как взгляд на лицо старого, немного надоевшего друга.
Вечером, после зажигания огня – того самого густого, маслянистого, неумолимого луча, что резал натужную тьму океана на куски, – наступало его личное, священное время. Он спускался в кабинет, расположенный прямо под фонарной комнатой, зажигал старую лампу с зеленым шелковым абажуром, отбрасывавшим болотное, уютное пятно света на полированную столешницу из темного дуба. И только тогда, с чувством, близким к благоговению, он доставал из нижнего ящика Рамку.
Он не просто смотрел – он сверялся. На пожелтевшем, чуть волнистом от времени картоне, под потрескавшимся, но начищенным до кристального блеска стеклом, стояла застывшая летним днем 1958 года его семья. Отец, Элиас Маколи, – живой монолит в начищенных до зеркального блеска сапогах и парадной тужурке смотрителя с позолоченными пуговицами. Лицо его было высечено, казалось, из того же норфолкского гранита, что и башня, – все углы, твердый подбородок, усы щеточкой, глаза, смотрящие поверх голов фотографа в будущее, которое уже наступило. Мать, Агнес, в простеньком ситцевом платье в мелкий синий цветочек, с тенью усталой, но искренней улыбки на бледном лице. Два рослых, угловатых, как молодые деревца, подростка. Майкл, четырнадцати лет, – уже с челюстью мужчины, квадратной и упрямой, и прямым, вызовом брошенным миру взглядом. И Дэниел, тоже четырнадцать, но тоньше, аристократичнее, с мечтательным, чуть насмешливым прищуром карих глаз и непослушным темным чубом, падающим на лоб. И он, Джерси, пяти лет от роду, притиснутый к жесткой, шершавой от ткани ноге отца, в коротких штанишках и полосатой футболке. На его лице застыла сложная гримаса из гордости, животного страха перед объективом и дикого желания поскорее соскочить и убежать обратно к своим камушкам на берегу.
Он водил подушечкой большого, мозолистого пальца по холодному стеклу, останавливаясь над лицом Дэниела. «Где ты теперь, брат?» – шептал он пустоте комнаты, и шепот этот тонул в ответных звуках маяка: в стонах растянутых в шторм тросов, в глухом, вечном гуле прибоя, доносившемся снизу сквозь толщу камня, в тихом, гипнотическом скрежете и шипении вращающегося механизма линзы этажом выше. Этот снимок был его якорем, его библией, его доказательством. Он был. Он принадлежал. Он – Джерси Маколи, смотритель маяка «Морская Кость». И все в его вселенной, пусть и маленькой, было на своих, твердо установленных местах.
Шторм пришел неожиданно, как вор, орущий в вентиляционные трубы. Он подкрался с северо-востока, и теперь башня содрогалась в его железных объятиях, каждый порыв ветра заставлял стальные балки основания скрипеть и стонать на грани терпения. Брызги соленой воды, поднятые с самой глубины, хлестали в толстые, но все же прогибающиеся стекла смотровой площадки, пытаясь, казалось, смыть саму память камня, стереть историю, написанную на его поверхности.
Накануне, в редкий, обманчиво-тихий день, к маяку пришел катер. Но это была не утлая «Чайка» Томми с припасами и свежими сплетнями. К причалу, нарушая тишину глухим рокотом дизеля, подошел аккуратный, выкрашенный в серый цвет катерок без опознавательных знаков. У причала, ловко привязавшись к ржавым скобам одним точным, экономным движением, стоял незнакомец.
Мужчина был высоким, сухопарым, в длинном бежевом плаще цвета пыльной дороги и темной фетровой шляпе с узкими, опущенными полями. Он нес не потрепанный рюкзак, а старый, но добротный кожаный портфель, потертый на углах. Представился мистером Кроссом, временным инспектором из регионального управления навигации.
«Плановая ревизия архивных записей и условий их хранения на удаленных объектах, – сказал он голосом, сухим и ровным, как шелест перелистываемых страниц в библиотечной тишине. – Надеюсь, не помешаю, мистер Маколи? Процедура займет не более часа».
Его визит был отмечен странной, почти призрачной несвоевременностью и нецелесообразностью. Он лишь мельком, без интереса, взглянул на сложные механизмы вращения линзы, не спросил о состоянии лампы, не поинтересовался запасами горючего. Вместо этого он неспешно, с руками, заложенными за спину, бродил по жилым помещениям и кладовкам, будто изучая не инженерные сети, а саму обстановку, атмосферу, «дух места». Его длинные пальцы в тонких коричневых кожаных перчатках иногда слегка, почти невесомо касались косяков дверей, полок, краев столов, как будто он считывал с них невидимую, тактильную информацию.
В кабинете его внимание мгновенно, будто по наводке, привлекла та самая фотография. Он не попросил разрешения, просто подошел и замер перед ней, не двигаясь, минут пять, а может, и десять. Джерси не решался его прервать.
«Крепкая семейная единица, – наконец произнес Кросс, и в его плоском, лишенном модуляций голосе не было ни одобрения, ни ностальгии, лишь холодная констатация факта, как если бы он рассматривал схему расстановки мебели. – Все на довольствии. Отец – столп, несущая конструкция. Сыновья – логичное продолжение. Редкая в наше время целостность композиции».
Перед уходом он вручил Джерси плотный коричневый конверт из грубой бумаги, запечатанный сургучной печатью с неразборчивым оттиском.
«Дубликаты архивных материалов, относящихся непосредственно к вашему объекту. Для сверки с вашими личными записями. Рекомендую ознакомиться. Расхождения, если таковые обнаружатся, могут быть… информативны».
Его рука в перчатке была прохладной и абсолютно сухой, как бумага. Он ушел так же тихо и необъяснимо, как и появился. Катерок растворился в серой, низкой дымке надвигающегося шторма, хотя звук его мотора Джерси не услышал – он будто выключился, отойдя на сто метров.
Вечером, в кабинете, под вой начинающейся бури, Джерси вскрыл конверт острым ножом для бумаги. Внутри лежала пачка пыльных, никому не нужных чертежей фундамента, схем вентиляции и… одна единственная фотография. Старый снимок маяка «Морская Кость», датированный 1932 годом. Он был сделан с абсолютно той же точки, что и его семейная фотография. Но на нем, у подножия гранитного исполина, никого не было. Только голые, мокрые от прибоя и покрытые лишайником камни, чахлая трава на вершине мыса и бесконечное, пустое, безоблачное небо. Словно кроме камня и неба здесь никогда ничего и не было. Джерси отложил снимок, смутно недоумевая, зачем ему это прислали. Предвестник одиночества? Намек на бренность всего сущего? Или просто случайная, ничем не примечательная архивная копия?
Он тогда не придал этому значения. А на следующее утро, после бессонной ночи, проведенной под душераздирающий вой шторма и скрежет металла, он, как обычно, подошел к столу, чтобы провести утренний ритуал. И застыл, как вкопанный.
На стекле фотографии, прямо над тем местом, где стоял Дэниел, расползлось мутное, молочно-белое пятно, похожее на морозный узор. Конденсат? Нелепая надежда вспыхнула и тут же погасла. Он снял рамку, взял свою мягкую фланелевую тряпку, ту самую, которой с религиозным тщанием протирал линзы, и начал водить по стеклу. Пятно не исчезло. Оно было под стеклом.
Сердце его пропустило удар, замерло, а потом заколотилось, как отбойный молоток, бьющий по металлической обшивке башни где-то у него в груди. Он поднес рамку почти вплотную к лампе с зеленым абажуром. И мир провалился у него под ногами в ледяную, беззвучную пустоту.
Это была не царапина. Не размытие от влаги. Не дефект старой эмульсии. Лицо Дэниела не было повреждено. Его не было. Совсем. На его месте остался лишь бледно-желтый, идеально ровный овал картона, такой же, как и фон неба за спиной у матери. Рубашка Майкла теперь вплотную, без единого зазора, примыкала к рукаву матери, пространство между ними бесследно исчезло, будто его зашили невидимыми, безупречными стежками. Отец стоял так же прямо, но его рука, лежавшая прежде на плече Дэниела, теперь просто висела в воздухе, опираясь на пустоту, и от этого жест выглядел неестественным, почти комичным, если бы не был так жуток. Композиция, однако, была безупречной. Цельной. Так, будто Дэниела никогда и не существовало в этом кадре. В этой семье. В этой реальности.
«Нет, – прохрипел Джерси, прижимая холодную рамку к груди так, что стекло затрещало. – Это… игра света. Влажность. Галлюцинация. Я устал». Но его руки дрожали мелкой, неконтролируемой дрожью. Он вспомнил пустую фотографию 1932 года, присланную мистером Кроссом. И его холодный, бесстрастный голос: «Все на довольствии». Какое довольствие, какое место было у Дэниела теперь? Места не было. Была дыра. И дыра эта смотрела на него.
Три дня он прожил в состоянии психического паралича. Подходил к фотографии, вглядывался в пустое место, отходил, пытался заняться чем-то, но мысли возвращались к этому безупречному, чудовищному отсутствию, как железные опилки к магниту. Он рылся в своей памяти, как в заваленном чердаке, выискивая твердые, неоспоримые подробности о Дэниеле. Вспоминал, как тот, смеясь, учил его вязать «беседочный узел», однажды спасший им жизнь в лодке. Как показывал, с какой силой и под каким углом пускать плоские камушки «блинчиком», чтобы они прыгали по воде десять, пятнадцать раз. Как спорил с Майклом до хрипоты о том, кто сильнее – капитан Немо или Робинзон Крузо. Но воспоминания стали скользкими, неуловимыми, как угри. Они уплывали, оставляя после себя лишь смутное чувство тревоги, потери и зияющую пустоту, точно повторяющую ту, что была на фотографии.
На четвертый день, когда тишина в башне стала звенящей и невыносимой, он пошел к рации, но, вспомнив о шторме и вероятных помехах, махнул рукой и направился к старому, дубовому ящику с проводным телефоном. Линии, толстые и прорезиненные, уходили куда-то под воду, к материку. Набрал номер, который помнил наизусть, несмотря на двадцать лет почти полного молчания.
Трубку взяли после пятого гудка.
«Алло?» – голос Майкла был чужим, городским, раздраженным еще до начала разговора, отзвуком другого мира.
«Майкл. Это Джерси».
Пауза. За ней – тяжелый, усталый вздох, полный предчувствия хлопот и обязательств.
«Черт. Старина. Что стряслось? Сломался твой маяк? Продуло, что ли? Опять проблемы с генератором?»
«Нет… Все в порядке. Техника… работает. Майкл, мне нужно спросить… о прошлом. Очень важно».
Еще один вздох, более терпеливый, снисходительный, каким говорят с капризным ребенком или стариком.
«Ну, спрашивай. Только, ради бога, быстро, через пятнадцать минут у меня совещание у босса. Кризис какой-то».
Джерси, сжимая черную, потрескавшуюся от времени телефонную трубку так, что костяшки пальцев побелели, заговорил. О детских играх на галечном пляже, о том, как они строили замки из водорослей. О том, как отец, скрипя зубами, учил их чистить заевший механизм вращения линзы. О том, как они с братьями лазили на отвесные скалы за птичьими яйцами и чуть не сорвались. И наконец, пробившись сквозь ком в горле, дрогнувшим, надтреснутым голосом:
«Майкл, ты помнишь Дэниела? Ради всего святого, что с ним стало? Куда он пропал? Я… я не могу вспомнить. И тут на фото…»
Тишина в трубке стала густой, тягучей, как холодная смола. Она длилась так долго, что Джерси подумал, связь прервалась из-за шторма. Он уже начал трясти трубку.
«Дэниела?» – наконец произнес Майкл. Он произнес имя так, будто пробовал на язык что-то несвежее, странное, незнакомое. «Джерси, слушай меня внимательно. У меня нет ни времени, ни желания обсуждать твои… детские фантазии. У нас с тобой никогда не было никакого Дэниела. Никогда. Были ты да я. И папа с мамой. Точка. Конец истории. Ты опять за свое? В прошлый раз, когда ты звонил пьяный, ты рассказывал про какого-то говорящего кота, который якобы жил у вас в кладовке. Тебе нужна помощь, брат. Серьезно. Выпей таблетку. Иди поспи. На свежем воздухе поработай, вбей в землю кол, что ли».
Щелчок. Резкий, окончательный. Монотонные, равнодушные гудки заполнили ухо. Джерси медленно, будто в замедленной съемке, опустил тяжелую трубку на рычаг. Его руки дрожали мелкой, неконтролируемой дрожью, похожей на озноб. Он опустился на стул, уставившись в стену, на которой отсветы от волн, бившихся о скалы, рисовали безумные, пляшущие тени. «Никогда не было». Слова жгли, как кислотой.
Потом, движимый слепым, животным порывом доказательства, он вытащил из-под кровати старый дубовый сундук с кованными железными уголками – «семейный ковчег», как называла его мать. Перерыл все до дна. Вывалил на пол выцветшие рубашки в клетку, детские шерстяные свитера с оленями, пачки пожелтевших, неотправленных писем, открытки. И альбомы. Три толстых, кожанных альбома с металлическими застежками.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.