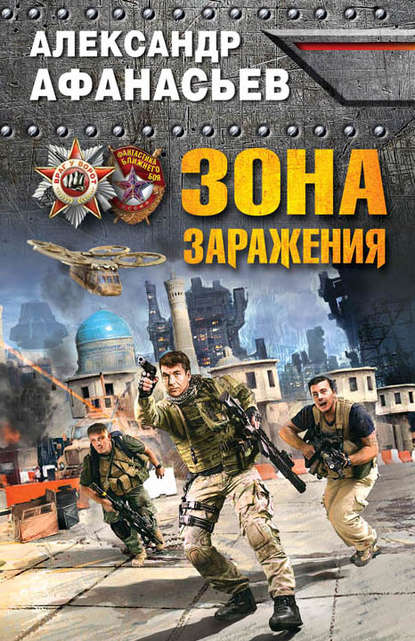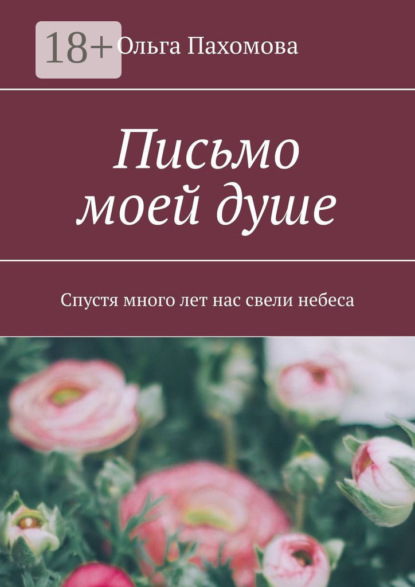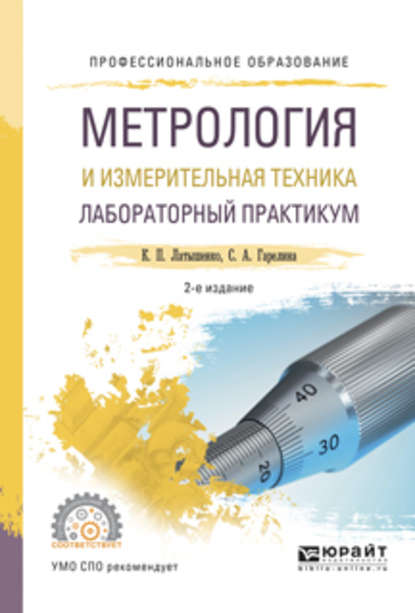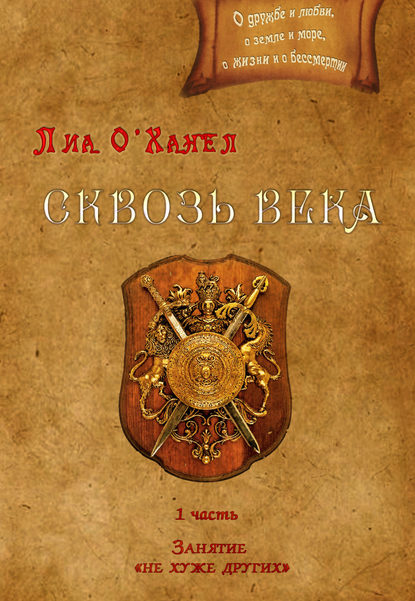Потехи царские на водах и землях Московских. Пётр I и его детские потехи
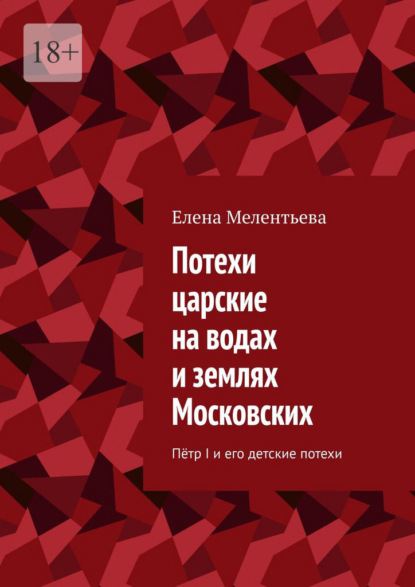
- -
- 100%
- +

© Елена Мелентьева, 2025
ISBN 978-5-0067-1792-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Царь Алексей Михайлович – основатель традиций
В сердце Московского царства, где мудрость сочеталась с прогрессивными идеями, рос и мужал будущий реформатор. Глава повествует о жизни и правлении царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим за мягкий нрав и стремление к просвещению. Его любовь к новшествам и западным традициям заложила фундамент будущих преобразований России.
Московском царстве, Московском государстве жил был царь Алексей Михайлович1
За своё доброе, незлобивое сердце и мягкий нрав был прозван Тишайший. Стал он Царём в 16 летнем возрасте.
Юный царь был строен, хорошо сложен, красив лицом и силён. Здоровья он был завидного и редко болел. Правда иногда у него случались вспышки гнева, но государь умел буйство чувств подавить и остыв, спешил навстречу обиженному со словами примирения.
До пятилетнего возраста молодой царевич Алексей оставался на попечении у царских «мам». А с пяти лет находился под надзором своего воспитателя боярина Бориса Морозова.
Еще в детском возрасте Алексей Михайлович пристрастился к чтению. Он стал учиться грамоте по букварю, затем приступил к чтению церковных книг, в семь лет начал обучаться письму, а в девять – церковному пению. С течением времени царского отрока составилась маленькая библиотека; из книг, ему принадлежавших, таких как «Лексикон» и «Грамматика», изданные в Литве, а также «Космография». В числе предметов «детской потехи» будущего царя встречаются: конь и детские латы «немецкого дела», музыкальные инструменты, немецкие карты и «печатные листы» (картинки). Он и сам сочинял вирши (стихи).
Всю свою жизнь государь собирал библиотеку. Долгие часы, проводил наедине с книгами и стал образованнейшим человеком. Все ему было интересно, всё желал знать, всему желал выучиться. Ни одно дело не обходилось без его участия.
Царь страстно увлекался охотой. Забава его состояла в соколиной и псовой охоте. Он содержал больше трёхсот смотрителей за соколами и имел лучших кречетов на свете, которые привозились из Сибири.
Он также охотится на медведей, волков, тигров, лисиц или, лучше сказать, травил их собаками. Когда он выезжал из Кремля, Восточные ворота и внутренняя стена города запираются до его возвращения. Когда Царь отправляется за город или в поле для увеселений, он строго приказывает, чтобы никто не беспокоил его просьбами. Он даже принял участие в составлении руководства по соколиной охоте. В нем царю принадлежат слова, ставшие со временем народной поговоркой: «Делу – время, а потехе – час».2
Всегда Алексей Михайлович стремился к порядку, интересовался всем новым и необычным, был рачительным хозяином.
Царь превосходно описал все свои походы, а их немало выпало за его царствование.
Сильно любил царь природу и был особенно счастлив, когда наедине мог наслаждаться ею.
Алексей Михайлович лично занимался вопросами организации армии. Сохранилось штатное расписание рейтарского полка. Занималась он и артиллерией и лично составлял чертежи пушок.
Алексей Михайлович очень интересовался европейской прессой, с которой знакомился по переводам и пытался наладить регулярную доставку в Россию иностранных газет. В 1665 году с этой целью была организована первая регулярная почтовая линия, связавшая Москву с Ригой.
Царь проявлял большой интерес к разным системам тайнописи и даже есть разработанные им шифры.
В круг интересов царя входила астрология. Алексей Михайлович был настолько увлечён звёздным небом, что попросил датского резидента достать ему телескоп.
Любимым развлечением Алексея Михайловича была игра в шахматы и другие близкие им настольные игры: тавлеи, саки.3
Царь Алексей любил также строиться, и сооружать все нарядно, пышно, пестро и затейливо Коломенский дворец – лучший образчик архитектурного вкуса и стиля украшений, любимого родителем Петра Великого.4 Привлекательная наружность дворца, при самом отсутствии симметрии в расположении отдельных частей, давала самое выгодное понятие о царском жилище.
Ни одна местность Москвы, кроме самого Кремля, не имеет такого значения истории нашей, как село Преображенское (с окрестностями)5.
Своим основанием, своим бытием и возвышением Преображенское всецело обязано Алексею Михайловичу.
А затем уже все важнейшие события происходили или здесь же, или здесь задумывались, приказывались, или, наконец, праздновались; при том делались лицами, или временно, или постоянно в нем жившими, до самого основания Санкт – Петербурга, а нередко даже и после того.
В селе Измайлове, лежащем тут же, в трех верстах от Преображенского, царь Алексей Михайлович на образцовом хуторе начал обрабатывать хозяйство посредством машин.
Не немцы только, но положительно и русские мастера устраивали ему такие машины, которые молотили хлеб силой воды, другие – колесами без воды, третьи – возводящие воду на высоту.
Он развел в Измайлове ботанический, аптекарский и другие сады, которые служили рассадниками для всей России; в них выращивались (акклиматизировались) всевозможные выписные иноземные фруктовые деревья; не только имелись виноградники, но велось даже шелководство! Все это летописцы того времени называют прямо «земледельческой академией на совершенно новый европейский образец!».6
На острове выстроил он обширный замок с тремястами башенками; стал заводить и мануфактурные производства, как, например, стеклянный завод, и еще долго потом, когда все это было при Петре уже запущено, славились и сохранялись измайловские стеклянные и другие изделия.
Не говоря о зверинце с редкими зверями, был еще сделан «Вавилон», то есть лабиринт: вещи все неслыханные и у нас еще невиданные…
Воспитателем Алексея Михайловича был западник Морозов, который еще при царе Михаиле шил немецкое платье своим воспитанникам царевичам и другим детям, воспитывавшимся с ними вместе.7 При Алексее подражателей Морозова стало много, и близкие к царю люди были большие охотники до заморского и дарили государя иностранными вещами.
Царь стал распространять эти новшеств с другими, еще важнейшими: поближе к столице, на перепутье между Измайловым и Москвой, где река Яуза покидает Сокольники, он основал тут новое хозяйство, назвавшееся, конечно, по церкви Преображенским, и заложил себе дворец на горе, в виду моста через Яузу и идущей через него дороги Стромынки.8
Царица Наталья Кирилловна получила большую силу над царем, она позволяла себе ездить в открытой карете и показывалась народу.
Близ этой – то пустоши Алексей Михайлович потешался соколиной охотой. Ранее ли, проезжая по этой дороге, в то ли самое время он решил на понравившемся месте у Собакиной рощи отделить под свою усадьбу часть берега Яузы в две с половиной десятины. Затем и прилегающее место по обоим берегам Яузы с рощами в двадцать десятин он также присоединил к своей личной усадьбе для нового хозяйства, в которое он вносил все новое, делавшееся в Измайлове.
При всех этих заведениях, затеях и заводах были русские ученики, оставалось только, чтобы они разносили из этих двух мест – Измайлова и Преображенского – по России то полезное, чему научились…
К северу от Москвы за деревней Большие Мытищи из болот, среди дремучего и заповедного леса, издавна слывшего Лосиным островом, так как в нем водились (и теперь еще водятся) лоси, вытекает река Яуза почти прямо на юг, впадая в Москву – реку ниже «города». В прежнее время она была чиста и светла как хрусталь, также полна и водой, так как по берегам ее были густые тенистые леса, а в них находились питавшие ее родники.
В то время берега ее были довольно пустынны, почти ничем не застроены; только какой – то, по преданию, не то разбойник, не то колдун Хапило на впадающей в нее речке Сосенке сделал плотину, из – за чего образовался длинный большой пруд, и поставил мельницу, а в старину же всякий мельник считался колдуном. Близ мельницы стала деревушка. Во всяком случае, пруд издревле зовется Хапиловским, и даже речка от плотины до своего впадения в Яузу называется уже не Сосенкой, а Хапиловкой.
Но скоро берега эти заселились: сначала мирным хозяйством царским со всеми диковинками своими и заморскими, а потом далее – исключительно военщиной и солдатчиной; все место к северу от пруда и речки скоро было застроено Преображенским, и с ним соединилась в одно деревушка Хапиловка; к югу от пруда бывшее сельцо Введенское переименованного Семеновским.
Построенный царем Алексеем Михайловичем дворец был деревянный, довольно обширный. Скоро при нем, помимо садов и прочего, по европейским и измайловским образцам создался театр – «Комедийная хоромина»: театр и сцена – первые в России!9
В царствование Алексея Михайловича разные заморские штуки были сперва наверху, во дворце и в домах знатных людей, где было больше знакомства с иноземных и больше средств приобретать заморские диковинки. Простым людям запрещалось забавляться музыкой, велено было искать и жечь музыкальные инструменты, потому что как явится музыка, так непременно примешается тут какое – нибудь суеверие и бесчинство.
Через десяток – другой лет все заглушил гром барабанов.
Из всех орошений, водопроводных и водополивных машин и тому подобное уцелел до конца 18 века лишь один только «царский колодец» между бывшим дворцом и мостом ближе к реке, в нынешнем Колодезном переулке.10
В последние годы жизни царь увлёкся европейской музыкой. Алексей Михайлович устроил для себя и ближних людей пир, который сопровождался очень необычной потехой: «Играл в арганы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам, и по литаврам били ж во все».11
Алексей Михайлович любил иноземные развлечения и к русским увеселениям относился с некоторым пренебрежением.
Сослав скоморохов, Алексей Михайлович озаботился поисками новых актеров.
В 1672 году царь приказал полковнику Николаю фон Стадену отправиться в Курляндию и провести там переговоры о приглашении на службу «рудознатных мастеров», могущих организовать металлургическое производство, «да трубачей самых добрых и ученых», а также специалистов, умеющих ставить спектакли.12 Любопытно, что актеры и режиссеры идут в этом списке в одном ряду со специалистами по добыче полезных ископаемых. И горное дело, и театр имели одинаковое государственное значение.
Но дальше переговоров дело не пошло. Слухи о том, что актера в Москве могут и зарезать, по всей видимости, дошли до Европы. Так что все звезды отказались, а на путешествие в Россию решились лишь четыре музыканта, один из которых был трубачом, а специализация остальных неизвестна.13
Европейский театр в Москве пришлось создавать подручными средствами. За помощью царь обратился к пастору московской лютеранской церкви Иоганну Готфриду Грегори, которому было поручено «учинить комедию» и организовал театральную постановку.14 Для него это не была совсем уж новым делом. В немецкой школе театральные постановки были частью учебного процесса, и магистр Грегори воспользовался своим опытом студенческих времен.
Из числа живущих в Москве иностранцев он собрал 64 человека, разучил с ними «Артаксерксово действо», которое представляло собой инсценировку библейской книги Эсфири. Были даже сооружены какие – то декорации. В документах упоминаются «рамы перспективного письма», но что именно там было изображено и куда они крепились, сказать трудно. «Шили и костюмы. В расходных книгах упомянуто, что Грегори было выдано «на бороды евреев и на иную меньшую починку 5 рублей».
Спектакль царю понравился, и был обнародован царский указ о выдаче магистру Иоганну Готфриду Грегори «за комедийное строенье» 100 руб. и соболиные шкурки».15
Если на первом представлении присутствовал лишь самый узкий круг, то последующие спектакли были относительно общедоступными.
Личная жизнь и семья Алексея Михайловича
За дворцовыми стенами разворачивалась не менее увлекательная драма, чем в государственных делах. История двух браков царя, рождение будущего преобразователя России Петра I и сложные семейные интриги создают живой портрет эпохи, где личные судьбы переплетались с историей государства.
В Преображенском, где находился дворец Алексея Михайловича, прошла целая череда спектаклей, которые посетило значительное количество зрителей, в том числе женщины и дети.16 Конечно же, это был не общедоступный коммерческий театр, а придворное развлечение для знати.
Кто же был главным помощником и вдохновителем тишайшего царя в его мирных и благородных нововведениях в том, что «государственное устройство получило новый вид»? Это – скромный, но знаменитый уже, просвещенный Артамон Матвеев, умный, бескорыстный друг царя, разумно ценящий Европу, завел у себя в доме все полезное и изящное; выписывал для государя как русских знатоков, так и иностранных мастеров, музыкантов, актеров; но иностранных – не для водворения их здесь навсегда господами, а только для немедленного обучения природных русских учеников.17
Матвеев, любил новизну: дом его был убран по – европейски картинами, часами и другими диковинками; жена его не жила затворницей, а сын получил европейское образование.
Дом Матвеева находился как раз по дороге, и притом по кратчайшей, от Кремля в Преображенское и Измайлово.18
Немудрено, что по этой дороге, в эту сторону от столицы, где лежит Преображенское, все притягивало царя более, чем в какую другую. Однажды он, запоздав, остался у «Сергеевича» ужинать запросто и увидел тут его семью: жену, трехлетнего сына и воспитанницу – красавицу, девицу 17 лет, Наталью Кирилловну Нарышкину (дочь тарусского помещика, стольника и полковника рейтарского строя, Кирилла Полуектовича Нарышкина). Будучи уже в зрелых летах, он вдруг пленился ей, но скрыл это на первый раз, а только заговорив с ней, как бы шутя обещал найти такой красавице жениха. Через неделю же, проезжая опять по той же дорожке в Преображенское, заехал и объявил Матвееву, что – жених – то будет он сам…
Перепуганный Матвеев пал на колена: «Ну, теперь сживут меня со света!» – умолял царя спасти его от злобы завистников. Государь дал слово не верить наветам и просил не печалиться, сказавши при этом, что можно устроить никому не в примету. «Представляй Наталью по указу… да смотри… поскорее!..»
Вскоре, по – старому обычаю, собрано было из разных дальних городов до 60—ти благородных девиц в царские чертоги для избрания невесты государю. Само собой разумеется, что дело решено было заранее, и жребий выпал прекрасной Наталье, которая взяла над всеми преимущество.
Детство и юность Петра I
От детских игр к государственным преобразованиям – путь, начавшийся на берегах Яузы. Глава раскрывает, как в военных потехах юного Петра зародились идеи будущих реформ, а случайная находка старого ботика положила начало российскому флоту.
В конце мая переехал двор в село Преображенское, а в августе в Коломенское.19 Государь бывал в столице только по праздникам, большую часть досуга проводил с семьей, находясь более в Преображенском.
Царица Наталья Кирилловна получила большую силу над царем, она позволяла себе ездить в открытой карете и показывалась народу.
Алексей Михайлович очень изменился. Он наконец – то обрёл счастье.
Первый его брак был вовсе не таким… На смотре невест, царь выбрал себе в жены Всеволожскую Ефимию Федоровну, но судьба уготовила бедной девушки другой путь. Дело в том, что в то время лучшим другом Алексея Михайловича, являлся некий боярин Морозов. Который безумно желал породнится с царской семьей. Ему хотелось, чтобы первой женой Алексея Михайловича Романова стала одна из сестер Милославская – Мария. В свою очередь Морозов хотел сочетаться узами брака со второй сестрой – Анной.
Ефимия никак не входила в планы Морозова и от неё надо было избавляться. Подкуп парикмахера и врача решил эту проблему. Девушка упала в обморок во время обряда наречения царской невестой и тут же была обвинена в сокрытии падучий болезни и вместе с родней, отправилась в ссылку.
Царю была представлена новая невеста, та самая Мария Ильинична Милославская, которой и уготована было стать первой женой Алексея Михайловича Романова. Правда, по другим сведениям, красивую высокую Марию, царь заприметил сам. Но так или иначе Милославская стала матушкой – царицей на целых 21 год.
В их браки родилось 13 детей: Дмитрий, Евдокия, Марфа, Алексей, Анна, Софья, Екатерина, Мария, Фёдор, Феодосия, Симеон, Иван, Евдокия. После появления на свет последний дочери Мария Ильинична скончалась. В течении года от болезней умерли и двое её сыновей царевич Симеон и царевич Алексей.
Через несколько дней после смерти первой жены Алексею Михайловичу исполнилось 40 лет. Прошли почти два года до того момента как царь решил жениться вновь.
Как мы уже поняли, стала его женой Наталья Кирилловна Нарышкина.
Но Брак продлился только пять лет и закончился смертью царя. Наталья успела родить ему трех детей, двух дочерей Наталью и Феодору, и же сына – Петра Алексеевича, будущего императора Пётр Великий.
Было в обычае, чтобы после бракосочетания царь, кроме заурядных поездок, или, как тогда говорили, походов, по подмосковным монастырям, делал один или вместе с новой царицей особые походы исключительно ради ее чадородия. Это было главное ее призвание. Царица должна была выполнить это свое призвание, для целей которого она и выбиралась с великой осмотрительностью из целой толпы красавиц. Она должна была дать наследника царю и царству. В этом заключался основной смысл ее царственного положения. Помимо этого, желания наследника, правда у Алексея Михайловича уже были дети мужского пола.
Взрослым же дочерям царя, тяжело было чествовать мачеху, которая притом была всех их моложе и красивее, а еще более сестрам царя и, наконец, всей их родне.
Душой всего управления был Матвеев. Молодые веселились в Измайлове, Коломенском и особенно в Преображенском, любимом пребывании царя Алексея Михайловича, где так тешил он свою молодую жену. Село Преображенское, понятно, должно было сделаться впоследствии любимой резиденцией царицы Натальи. Прибавим со своей стороны, что Преображенское и оставлено было ей в тяжелую годину ее вдовства.
Впоследствии сочинено, что будто бы Симеон Полоцкий предсказал царице «по светлой звезде близ планеты Марса» рождение славного сына.
Предположение, что Петр родился в Преображенском, или Измайлове, или еще Коломенском, должно быть – совершенно отстранено.20 И совершенно точно, что Петр родился в Кремлевском дворце, в ночь (в 1-ом часу) под 30 мая 1672 года.
Так как до дня праздника Петра и Павла оставалось 4 недели, то, решив назвать новорожденного Петром, и самое крещение отложили до этого дня. Погодин говорит: «Имя небывалое в царском семействе, но и нечуждое русскому слуху, как ежедневно возглашаемое в святых храмах».
Новорожденный ребенок царевич Петр был здорового и крепкого сложения. По приказу царя, немедля после рождения, была написана «жалованными» живописцами Ушаковым и Козловым на кипарисной доске икона апостола Петра в точную меру новорожденного.
Конечно, заранее был сделан и выбор мамы, и все распоряжения по выбору кормилицы – «жены доброй и чистой и млеком сладостной и здоровой». В мамы Петру назначена была сначала Ульяна Ивановна, а потом боярыня Матрена Романовна Левонтьева; кормилицей была первоначально Ненила Ерофеева, из какого чина неизвестно.
Настало 29 июня, и крестины были совершены в Чудовом монастыре. Крестил духовник царя, благовещенский протопоп Андрей Савинов. Восприемниками были старший брат Петра царевич Федор Алексеевич и тетка царевна Ирина Михайловна.
«Родинный» стол был дан в Грановитой палате на другой день.
Стол новорожденного Петра в буквальном смысле загроможден был разнообразными изделиями старинных приспешников. Между ними самое видное место занимали и служили украшением царского пира огромные коврижки и литые сахарные фигуры птиц, зданий и много другого. Большая коврижка изображала герб Московского государства. «Два сахарных орла весили каждый по полтора пуда, лебедь два пуда, утя полпуда, и попугай полпуда… Был сделан также и город сахарный Кремль с людьми конными и пешими; и другой город – четвероугольный – с пушками (крепость)».
В то же время и царица давала родинный стол боярыням в своей Золотой палате. Из сахаров и овощей, поданных ей на стол, были: герб государства Казанского, орлы, лебедь, утя и другие птицы того же веса, как за столом царским».
Петр напоминал отца серьезным отношение ко всему окружающему.21 И это, едва ли не врожденное, свойство ума останавливало внимание Петра на всяком новом предмете. Мало того, обратив внимание на что-либо, Петр добивался все узнать об этом предмете или, еще точнее, получить о нем полное понятие. Затем следовало мгновенное соображение: что можно из этого сделать? И только решив уже этот вопрос, останавливался и успокаивался ум гения.
От матери, Пётр заимствовал честность и твердое держание данного слова. Люди и обстоятельства, с течением времени, путём тяжёлых уроков, развили в Петр недоверчивость; но никогда и ничто не было в состоянии заставить его переменить данное слово.
Как уже упоминалось, царь Алексей более других проводил время в селе Преображенском, на берегу тихой, светлой Яузы, среди рощ и садов, откуда он часто в Сокольниках тешился соколиной охотой; обычные же богомолья справлялись своим чередом. В один из таковых, именно в 1673 году, когда он со всем семейством возвратился из Троицкой лавры, 26 октября маленький царевич Петр, сколько известно, с отцом и матерью в первый раз привезен был в Преображенское.
Впоследствии Петр проводил детство и потом отрочество свое большей частью в Преображенском, а затем стал слишком часто посещать соседнюю Немецкую слободу.
Нужно сказать о военное устройство до Петра, которому приписывают оригинальность, новизну, стройной системы; на самом деле же европейский строй начат не им, не его потешными, а начат давно и серьезно, но все-таки именно в этих, соседних местностях.
Со времен Иоанна Великого русские цари искали за границей начальных людей для своих войск, даже призывали целые полки из Западной Европы для борьбы с Полыней.
Впервые Борис Годунов завел в 1600 году дружину иноземного строя из пленных поляков и ливонцев, и «приговоренных послами» шотландцев (т. е. народов Австрии), греков и других в 2500 человек, состоявших в ведении своих капитанов, из которых известнейший – француз Маржарет.
Царь Михаил Федорович многим из иноземцев раздавал важные торговые права и вызывал из-за границы докторов для своего двора, рудознатцев для отыскания руд и устройства заводов, ремесленников для учреждения фабрик, инженеров для укрепления городов, даже астрономов для наблюдения светил небесных, нанимал полки войск иноземных, и при нем же собрано было «старого, то есть прежнего выезда» сербов, волохов и греков девять рот. «Немцев же нашли тогда в России всего менее полутораста человек! … у всех ротмистров славянские прозвания: Мустофин, Кулаковский, Желиборский и другие».22
Далее англичанин Лесли и голландец Фан-Дамм привели пять наемных немецких полков, не принесших, однако, в войне с Польшей ожидаемой пользы. И явилась более основательная мысль – обучать все русские войска европейскому строю: и у Шейна под Смоленском было уже шесть полков солдатских, один рейтарский и один драгунский.
Это значит, что важная реформа начата за целое полстолетия до рождения Петра.
Все это, в большем еще размере, продолжал царь Алексей. С иноземными офицерами послы или агенты его заключали контракт непременно на определенный срок (и после возобновлявшийся), со свободой выезда и с главной целью – обучения своих русских…
Молва о щедром благоволении царя Алексея к иностранным офицерам до такой степени распространилась по Западной Европе, что сотни полковников, майоров, капитанов из самых отдаленных стран с женами и детьми, морем и сухим путем приезжали в Россию. На предложение датского полковника Фюнбурга привести в Россию несколько полков иноземных царь поручил ему нанять 4 полка рейтар и 4 полка солдат «ученых людей со всем строем, в полном вооружении, с огнестрельными мастерами, инженерами, пушкарями и всякими вымышленниками».23