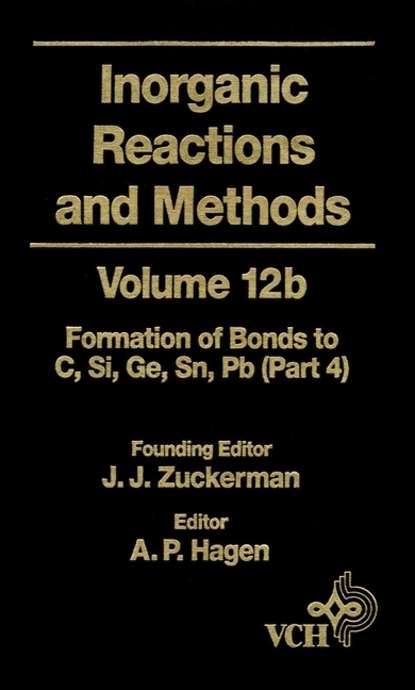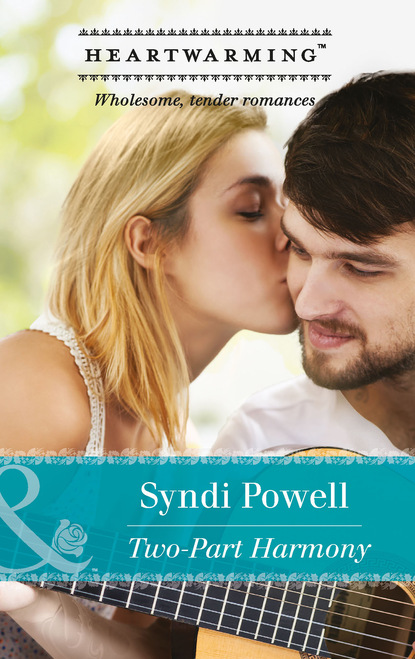Хроники Архипелага

- -
- 100%
- +

Внимание! Данный рассказ является художественным произведением, предназначенным для читателей 18+. «Хроники Архипелага» – это история, разворачивающаяся в вымышленной и жестокой вселенной. Это мир, где индивидуальность принесена в жертву «Великому Замыслу», а главные герои являются одновременно и орудиями системы, и её жертвами. Перед вами не лёгкое произведение. Текст погружает в атмосферу безысходности, исследует темы долга, предательства и любви. Будьте готовы к откровенным и депрессивным сценам, подробным описаниям насилия (как физического, так и психологического), а также к сложным философским вопросам, не имеющим однозначных ответов. Все совпадения с реальными людьми, организациями или событиями являются случайными.
Глава № 1. Вызов к Бельведеру
– Доброе утро, Архипелаг, – голос, отточенный до стерильного алгоритмического идеала, прорезал пелену сна, исходя не извне, а изнутри, из самого черепа, из того крошечного процессора, что вживлен в кость за мозжечком. Он бил в виски ритмичными ударами, словно тихая, но настырная дрель; тембр был подобен полированному обсидиану: гладкий, холодный и бездушный, а за ним скрывалась верная, выверенная до микрона головная боль. – Вас вызывает Риф, он в центральном секторе в Бельведере 1-альфа.
Риф… Имя прозвучало в сознании, как отзвук далекого взрыва. Старый добрый друг. Призрак, являющийся ровно в тот миг, когда тяжесть веков окончательно придавливает тебя к подушке, а веки наливаются свинцом усталости. Вселенная, казалось, обладала извращенным чувством юмора: стоило мне выдохнуть, решить, что настал мой черед привести в порядок не столько барракон, сколько собственные изломанные нервы, как из ниоткуда возникали новые задания, новые миссии, новые просьбы, облеченные в форму приказов.
Барракон, наше с Айной пристанище, был немым свидетелем этого вечного хаоса. То тут, то там, словно осыпавшиеся листья с дерева, погибшего в бурю, валялись следы нашего бытия: грязная униформа, пахнущая потом и чужими мирами, диск с данными, испещренный тревожными значками, разобранный бластер, чьи внутренности сверкали на утреннем солнце холодным металлом. А возле кровати, подпирая стену, высилась целая геологическая формация из неразобранных трофеев, молчаливых памятников миссиям, что я предпочел бы забыть. Там лежали книги, чьи кожаные переплеты хранили запах чужой плесени; одежда, расшитая узорами народов, стертых с лица галактики; причудливые произведения искусства, в которых угадывались последние судорожные вздохи цивилизаций, не сумевших приспособиться.
Айна с неистовством, достойным лучшего применения, пыталась приручить этот хаос. Она планировала каждый сантиметр нашего «гнездышка», выстраивая баррикады из уюта против внешнего абсурда, а я в те моменты лишь молча кивал, чувствуя себя солдатом, который, вернувшись с фронта, не может объяснить мирным жителям запах пороха и глины окопов.
Великие, эти незримые кукловоды, разумеется, не поощряли близости между агентами. Близость рождала уязвимость, а уязвимость была точкой сбоя в безупречном механизме их воли. Признаться, я и сам, закрутив этот безумный роман, не думал, что он зайдёт так далеко, что превратится из мимолетного утешения в необходимость, в кислород, без которого задыхаешься. И вот результат: в моей когда-то холостятской берлоге, где царил спартанский минимализм, теперь висели картины и гобелены, изображавшие идиллические пейзажи: леса, которых никто не видел, и моря, в которых никто не плавал. А мои прежние сокровища: вырезки из древних кодексов с описаниями кровавых жертвоприношений и ритуальных самоубийств смиренно перекочевали в самый дальний и тёмный угол, словно опасные рецидивисты, заключенные в камеру-одиночку. Айна, чья душа, казалось, была соткана из света, несмотря на всю ее смертоносность, считала, что в нашей работе и так с избытком жестокости и тлена, а потому, для равновесия, стоит иногда вспоминать о том, что в этом огромном, жестоком мире все еще оставались островки чего-то хрупкого и прекрасного.
И вот, едва я вернулся из дикой глуши, с той планеты, где воздух был густым, как сироп, и пах серой и разложением, как Великие, эти всевидящие оракулы, снова нашли для меня задание. Казалось, они выжидали момент, когда я, наконец, коснусь губами чаши покоя, чтобы вышибить ее ударом молота. Я просто хотел спать. Спать так, чтобы сны не были полны теней и воплей. Хотел увидеть свою любимую не мельком, между миссиями, а провести с ней целый день, не думая о том, что завтра снова в бой. Отдохнуть, в конце концов, чтобы мозг перестал быть клубком тревожных проводов под напряжением.
Айна. Она всегда любила ходить в нижнем белье по барракону, и в этом был свой, сокровенный ритуал. Ее тело было не просто совокупностью линий и объемов; это была поэма, написанная на языке плоти и грации. Формы её плавные, обтекаемые, словно выточенные ветром и водой из единого куска мрамора, медленно переходили друг в друга, сливаясь в гипнотический танец, где идеал математической гармонии сплетался с первобытной, дикой эротикой. И было страшно, леденяще душу страшно, осознавать, что это живое, дышащее «произведение искусства» было на самом деле совершенной, отлаженной машиной для убийств, инструментом, чья эффективность измерялась в количестве тишины, которую она могла принести.
Её глаза… Они были не просто голубыми. Они были Великим океаном, тем самым, что фигурировал в старых легендах: бездонным, полным тайн и спокойной, неумолимой силы. За всю свою жизнь, полную встреч с существами с тысяч планет, я ни разу не видел ничего подобного. Смотря в них, я словно тонул, погружался в безвоздушную пучину её души, которая, вопреки всему, что мы творили, оставалась полной любви, неистребимого добра и того тихого, но несокрушимого желания просто быть вместе, вопреки Великим, вопреки Всеобъемлющему Уму, вопреки самой логике нашего существования. Её волосы были не просто рыжими. Они были как языки живого пламени, игравшие над тлеющими, обугленными дровами костра, который никогда не угасал полностью, согревая холодные стены нашего барракона.
Сползая с кровати, я почувствовал, как по мне пробегает судорожная дрожь усталости и протеста. У меня появилось одно, примитивное и непреодолимое желание, тут же, сию секунду, связаться с Бельведером 1-альфа и послать куда подальше и Великих с их вечными играми, и Всеобъемлющий Ум с его ледяной, бездушной логикой. Но мысль эта, едва родившись, наткнулась на броню суровой реальности. Нельзя. Категорически, смертельно нельзя. Если, конечно, моя жизнь и, что страшнее, её все еще дорога.
Пытаясь привести мысли в порядок, я вышел в основную зону барракона, навстречу рождающемуся дню. Встречая рассвет кружкой свежесваренного кофе, чей горький, знакомый аромат был одним из немногих якорей в этом море неопределенности, я думал над тем, в чём могла заключаться причина такой спешки. Надежда, маленькая и наивная, теплилась в груди: надеюсь, это очередная ревизия. Скучная, рутинная проверка карантинной продукции. Для таких, как я, эти проверки никогда не ограничивались рамками официальной «системы»; они были окном в подпольную жизнь галактики, её черный рынок и запретные удовольствия. Иногда, очень редко, мне удавалось провести это время с пользой не только для протокола, но и для себя. Так, например, исследуя в прошлый раз нелегальное производство синтетической пшеницы на спутнике Икс-77, я под развалинами цеха обнаружил потайные гидропонные плантации, где зрели запрещенные регламентом овощи: влажные, пульсирующие жизнью, пахнущие так, как не пахнет ни один синтетический продукт. Поля, конечно, уничтожили струей плазмы, оставив после себя лишь черный оплавленный пятак. Но мне, пользуясь суматохой, все-таки удалось спрятать в тайнике корабля пару ящиков с этими ароматными, сочными плодами для Айны. Для того, чтобы увидеть, как загорятся ее глаза океанским огнем, когда она попробует настоящий, не лабораторный вкус.
Овощи, впрочем, были далеко не единственным моим маленьким бунтом против стерильного миропорядка. В тайниках барракона, за панелями стен, хранились и другие сокровища, добытые вдали от глаз начальства: зерновой кофе с плантации, которую давно стер с лица галактики катаклизм; трюфельная соль, добытая в пещерах, где обитали слепые чудовища; пыльца фенхеля, от которой кружилась голова и являлись странные видения; самундари Хазана – пряность, за грамм которой на черном рынке готовы были убить. Айна, прагматик до кончиков пальцев, часто говорила, качая головой, что рано или поздно моя «коллекция» станет известна аудиторам, и меня не просто оштрафуют за контрабанду, а сотрут в порошок, дабы неповадно было. Я же, глядя на нее, на этот оазис тепла посреди ледяной вселенной, что мы защищали, считал, что за такие мгновения, за возможность видеть ее счастливой, не жалко отдать и добрый, размером с кулак, кусок палласита – самого редкого и прекрасного минерала в известной вселенной. Ибо что есть холодная драгоценность в сравнении с живым теплом любимого человека?
Стоя возле панорамного окна, за которым простирался искусственный рассвет, я вглядывался в собственное отражение, в этого незнакомца из закаленного стекла и теней. Солнце такое же рукотворное, как и всё здесь, отбрасывало длинные, искаженные тени, ложащиеся на моё обнажённое тело, на эту карту былых сражений, написанную шрамами и памятью плоти. Шрам там, шрам тут. Каждый не просто бледная полоска на коже, а нательное напоминание, выжженная руна, рассказывающая историю неудачных экспедиций, проваленных миссий и тех садистских тренировок в Школе Путешественников, что должны были выжечь из нас всё человеческое, оставив лишь идеальный инструмент.
Взгляд скользнул вниз, туда, где рельеф пресса, прорезанный годами тренировок, переходит в интимную зону, скрывая самый первый, самый постыдный шрам. Бледный, узкий, словно след от укуса змеи. Он вернул меня в тот день, в зал, пахнущий потом, страхом и озоном от жужжащих тренажеров. Нас, мальчишек, со дна социального генетического котла, учили не просто самообороне, нас учили презирать собственную плоть.
«Боль – это иллюзия, которую ваш разум должен растворить», – голос инструктора был холоден, как скальпель. Каждому рекруту вложили в руку настоящий нож, лезвие которого поймало тусклый свет. Приказ был прост и чудовищен: резать себя. Будучи мальчишкой, отчаянно желавшим доказать, что я не просто безликий номер из Эмбрионального акрополя, что я могу быть круче, жестче, безумнее всех, я не просто порезал кожу. Я, с диким криком, в котором смешались ярость и отчаяние, вонзил лезвие глубоко, под правое ребро, пытаясь проткнуть саму суть своей человеческой слабости. Помню, как побледнел инструктор, выхватывая клинок из моих дрожащих рук, помню шокированные, почти испуганные взгляды одноклассников. Но я запомнил один-единственный взгляд, который не выражал ни шока, ни страха. Взгляд Айны. Её лицо оставалось каменной маской, а ее руки, лежавшие на столе, были испещрены десятками таких же, а то и хуже, шрамов – татуировками боли неизвестного мне тогда происхождения. Она просто смотрела, и в ее глазах я прочел не одобрение, но… понимание.
Выше, вдоль грудной клетки, змеились несколько уродливых, криво заштопанных ран, похожих на высохшие русла рек на марсианской карте. Напоминание о моей первой настоящей неудаче, о первом плене. Задача была стандартной для «коррекции» – уничтожить поселение, вышедшее из-под контроля. Но я, опьяненный юношеской самоуверенностью, переоценил свои возможности. Аборигены, эти существа, отдалённо напоминающие людей, оказались куда умнее и коварнее, чем гласили краткие сводки. Они не пошли в лобовую атаку. Они заманили, устроили западню, скрутили лианами, прочнее титановых сплавов, и бросили в пылающую хижину. Не буду вдаваться в подробности того, что было потом, в тот животный, первобытный ужас, в запах горящей плоти своей и чужой, в хруст ломающихся костей, когда пришлось вырываться. В итоге, все они были мертвы. Огонь, пожирающий всё, помог мне пережечь путы, но он же стал моим палачом и спасителем. Раны, обугленные по краям, пришлось зашивать самому, в темноте заброшенного транспорта, под аккомпанемент собственного сдавленного рыка, пока игла, согнутая из подручного металла, снова и снова пронзала кожу, пришивая меня к жизни.
И самый опасный, опоясывающий шею, как ожерелье смерти, шрам. Его я получил на одной из первых миссий по внедрению, на той, что должна была стать моим триумфом. Наплевав на многочасовой инструктаж и кипы исторических справок о измерении, я, в своем ослеплении, решил, что гений импровизации затмит скучную подготовку. Зря. В том мире люди жили дикарями не потому, что не умели иначе, а потому, что все их поселения, все попытки социализироваться и построить цивилизацию методично рушили разумные хищные растения – титанические лианы, способные мыслить как стая. В их спутанных, полых стволах, источавших дурманящий нектар, я и решил спрятаться, чтобы понаблюдать за племенем. Я не учел, что растение само решило понаблюдать за мной. Было не просто больно, когда гибкие, как сталь, усики обвили горло, впиваясь в плоть; это было чувство абсолютного предательства по отношению к самому себе, к своему тщеславию. Ту миссию я, конечно, провалил, едва вырвавшись и оставив клочья своей кожи в тех челюстях. Мораль, выжженная на шее и в сознании: всегда читай историю измерений перед тем, как отправиться в новый мир. Глупость должна больно стоить.
Я так и не представился должным образом – меня зовут Архипелаг. И это не имя, выбранное родителями в порыве нежности или надежды. Это всего лишь случайное слово, которое высветила инфокарта, когда меня, одного из тысяч других эмбрионов, привезли из стерильного чрева Эмбрионального акрополя в суровые стены Центра воспитания. Ни семьи, ни колыбельной, ни прошлого. Лишь холодный, безличный код. Набор триплетов в моей ДНК, расшифрованный и проанализированный, предопределил мою судьбу с безжалостной точностью: пожизненная служба у Империи, этой бездушной машины, правящей сразу несколькими измерениями и тысячами планет, где мы были всего лишь винтиками, пусть и сверхпрочными.
Кофе в моей руке давно остыл, превратившись в горькую, холодную жижу, а я всё ещё стоял и смотрел на эдемы напротив: идеальные, сияющие башни, где обитали такие же, как я, слуги системы. Лучший вид для лучшего агента по коррекции. Ирония, от которой во рту становилось еще горче.
Мы жили в полностью менеджированном, подконтрольном и развитом мире. Взгляд скользил по сотням одеонов, их фасады, отполированные до ослепительного блеска, были сложены из искусственного мрамора, над созданием которого день и ночь, без устали и мысли, трудились армии роботов. А между этими монументами порядка тянулись прекрасные, стерильные аллеи и безупречные поля, где довольные, умиротворенные люди расслаблялись и, как гласила пропаганда, «приходили в единение с нашей Великой целью». Мир, вылепленный по чертежу, где у хаоса не было ни единого шанса.
Мы встали с колен. Так нас учили. Мы больше не ползали в грязи собственных страстей и слабостей.
Мы поработили силы природы для своих нужд. Приручили шторма, разверзли недра планет, подчинили саму ткань реальности. Но, глядя на хаос своего барракона, я понимал, что кое-что всегда будет ускользать от тотального контроля.
Индикатор одежды, маленький мерцающий диск, валялся где-то возле шкафа, заваленного грудами старых бумажных отчётов – анахронизм, который я упрямо коллекционировал. Я три месяца, целых три месяца, не мог заставить себя утилизировать скопившийся мусор в перголе. Доверять такую интимную, хоть и рутинную работу синтетикам, которые могли бы доложить о любой, даже самой мелкой «аномалии», было себе дороже. О полноценной уборке, о наведении того самого порядка, что царил за окном, не могло быть и речи. Виной тому были неотложные командировки, вечный круговорот заданий, что оставляли после себя лишь пыль чужих миров и осколки собственной, неупорядоченной жизни.
– Архипелаг, повторный вызов к Рифу, – женский голос, лишенный каких-либо интонационных изгибов, бесцеремонно вклинился в тишину моего сознания, подключившись напрямую к чипу связи, в обход всех стандартных протоколов. Обычно передача сообщений осуществляется через моего личного Мойрария (мой персональный ИИ-ассистент, внедрённый в процессор за мозжечком, интерфейс ко Всеобъемлющему Уму, что служил одновременно связистом, переводчиком, тактическим советником и энциклопедией миров, просчитывая вероятности и фильтруя информационные потоки), который хоть как-то фильтровал этот информационный шум, но для Верховных диспетчеров любые ограничения всего лишь дымка, рассеивающаяся, когда положение дел начинает угрожать незыблемости Высшего замысла. Их доступ был абсолютным, как закон тяготения, и столь же неумолимым.
Да. Мысль пронеслась с кристальной, леденящей ясностью. Что-то серьёзное. Катастрофически серьёзное. Игнорировать больше нет возможности. Надо ответить. Мое тело, еще не отошедшее от глубокой мышечной усталости, напряглось само по себе.
– Прошу прощения за вторжение, – голос диспетчера снова прозвучал в черепе, на этот раз с подобострастной ноткой, которая лишь подчеркивала ее истинную власть. – Архипелаг, у Империи большие проблемы. Необходимо ваше немедленное присутствие в Бельведере 1-альфа.
– На низком старте, – я выдавил слова, чувствуя, как по сжатым челюстям расползается знакомая волна гнева. Как же бесит их настойчивость, эта уверенность в том, что мои потребности: сон, отдых, минута покоя с любимой не имеют никакого веса в сравнении с их вечными «проблемами». В конце концов, я только что вернулся с задания, откуда меня едва вывезли живого, и поспал от силы пару часов, и то впроголодь, будто воровал это время у самой Вселенной.
– Да, конечно, – по голосу диспетчера стало слышно, что она улыбается, и эта улыбка, теплая и почти человеческая, показалась мне самой жуткой вещью за сегодня. Может, на этот раз на том конце провода действительно человек, а не просто умелая алгоритмическая имитация, собранная для создания иллюзии комфорта? – Ожидаем вас… подождите, переподключение.
Ее голос, словно попав под молот, сменился какофонией неприятных, скрежещущих помех, которые отозвались внутри моего процессора режущей, до тошноты знакомой головной болью. Это было не просто шипение эфира. Это было ощутимое, физическое вторжение. Кто-то, обладающий правами выше, чем у диспетчера, внедрялся в мой процессор дистанционно, расталкивая все защиты, как бумажные ширмы.
– Доброе утро, Архипелаг. Поторопись, катастрофические проблемы.
Риф… Его голос, низкий и нарочито спокойный, прозвучал с той же ясностью, как если бы он стоял за моей спиной. И в этот миг ярость во мне вскипела с новой силой. Да как он вообще смеет?! Как он смеет вот так, используя свой административный доступ, врываться в святая святых, в мое личное ментальное пространство, в самый мозг, как в собственную кладовку!
– Что за проблемы, дорогой друг? – я вложил в слова всю ядовитую сладость, на какую был способен. – Даже на «передёрнуть» нет времени? У вас там, наверху, совсем забыли, что у людей есть биологические потребности?
Я старался его задеть, прощупать старую, давно затянувшуюся, но все еще чувствительную мозоль, но, судя по тяжелому молчанию в ответ, у него в этот раз не было ни малейшего желания поддерживать наше привычное словесное фехтование.
Риф… Он изначально был тем самым третьим лишним в нашем причудливом любовном треугольнике. Мы оба, два альфа-самца, выдрессированных системой для доминирования, боролись за внимание Айны, за право стать тем, кто согреет ее холодное, испещренное шрамами сердце. Но когда она, к моему бесконечному изумлению, сделала свой выбор, мы, скрепя сердце, решили сохранить подобие дружбы, или, точнее, боевого товарищества. Риф был везунчиком с самого рождения; его интеллект и феноменальная эрудиция сразу определили его как Поколение Р. Благодаря этому высокому статусу он постоянно спонсировал меня перед особо опасными миссиями, снабжая экспериментальными изобретениями, которые еще не поступили на поток к другим путешественникам. Его щедрость была одновременно и жестом дружбы, и постоянным, немым напоминанием о его превосходстве.
И тут я услышал это: тихий, растянутый звук. Он медленно выдыхал сигаретный дым. Снова закурил. Это был плохой знак, очень плохой. Те самые контрабандные сигареты из Семнадцатого сектора, пахнущие древесной корой и горьким миндалем, были уничтожены вместе со всем тамошним населением во время последней «зачистки». Риф приберегал свой скудный запас только для самых мрачных, самых отчаянных случаев, когда будущее висело на волоске.
– Сектор 7-альфа объявил о нарушении исторической линии, – его голос прозвучал приглушенно, сквозь дым. – Сразу в нескольких смежных измерениях. – Судя по доносящемуся звуку, он что-то нервно потер в руках. Видимо, свой «укрощающий кнель», тот самый гладкий черный шарик, который он всегда носил с собой, утверждая, что он помогает сосредоточиться. – Код дельта-2. Всеобъемлющий Ум уже просчитывает вероятностные ветки, но тебе, как единственному, кто только что вернулся оттуда, необходимо присутствовать на срочном собрании Великих. Лично.
Великие. При этих словах по спине пробежал ледяной холодок, отголосок старого, вбитого в подкорку страха. Ещё в стенах Школы путешественников, каждую ночь, когда наше сознание было наиболее уязвимо, Мойрарий внушал нам, как мантру, историю происхождения Великого замысла. Монотонный, лишенный эмоций голос звучал в полной темноте:
«Слушай и верь. Ты сила и прибежище наше.
Не убоись зла, потому что ты со мной.
В начале времён пришли Они. Началась священная война.
Много жертв и потерь.
Не повторить. Не допустить. Уничтожить. Захватить.
Ты наделён властью нашей. Во имя Великого замысла. Слушай и верь».
И так сотни, тысячи раз за ночь, пока эти слова не перестали быть словами, а стали частью нашего ДНК, нашего дыхания, нашего инстинкта самосохранения.
Сектор 7-альфа… Первый из захваченных миров. Плацдарм. Именно оттуда, согласно канону, пришли ОНИ – безликие захватчики, те, чье имя было стерто из истории, дабы не давать им силы. Наши предки заплатили за ту победу реками крови. Говорили, что выжженные кости павших в той битве стали строительным материалом для стен того самого Пункта Наблюдения, что теперь зиял, как черная дыра, в самом сердце сектора, следя за другими Вселенными, за вероятностями, изменениями и малейшими колебаниями планируемой линии времени. Малейшее отклонение, всплеск на графике и Агента по корректировке, такого как я, уже направляют на срочную миссию «умиротворения».
И сейчас странность ситуации достигла пика. Не прошло и двенадцати часов, как я сам вернулся оттуда, с той самой границы. И при просчёте точки моего выхода система дала четкий, однозначный прогноз: возможность нарушения линии времени на ближайшие земные сутки была исключена. Статистическая погрешность стремилась к нулю. Значит, случилось нечто, что Всеобъемлющий Ум не смог предсказать. Нечто невозможное.
– Скоро буду, – отрезал я, разрывая соединение с такой резкостью, будто перерезал горло невидимому проводу.
Тишина, наступившая после, была оглушительной. Я остался стоять в центре барракона, и мой взгляд снова упал на зеркало, на свое отражение: уставшее, испещренное шрамами, принадлежащее человеку, которого втягивают в новую воронку безумия. И в этот миг, острее, чем когда-либо, я подумал, как же мне не хватает Айны. Не просто ее присутствия, а ее стальной решимости, ее холодного аналитического ума, который мог бы разобрать эту ситуацию по косточкам, и ее бездонных, океанских глаз, в которых я всегда искал спасение от надвигающегося кошмара.
Индикатор одежды, холодный и влажный на ощупь, прилип к коже у левого соска, словно хирургический пластырь или паразит, готовящийся к внедрению. Со стороны он выглядел как обычная, ничем не примечательная латексная наклейка, но его прикосновение к коже вызвало знакомое, едва уловимое покалывание, и тут же перед моими глазами, наложившись на реальность, вспыхнул голографический дисплей сетчатки. Трёхмерные модели одежд, симуляции тканей и брони, бесчисленные варианты и комбинации начали проноситься вихрем, выдвигаясь автоматически, стоило моему процессору считать координаты предстоящей миссии и проанализировать целевую социокультурную матрицу. Огромное, непостижимое для обычного ума хранилище, вобравшее в себя миллионы образцов одеяний из различных эпох, параллельных миров и безумных культурных слияний, было загружено, разобрано по атомам и выставлено на витрину моего восприятия для единственной цели – безупречной маскировки. Ведь даже шпиону, пришедшему с миссией уничтожения, в стане врага надлежит выглядеть безукоризненно и соответствующе, сливаясь с толпой, как ядовитая капля в бочке мёда.