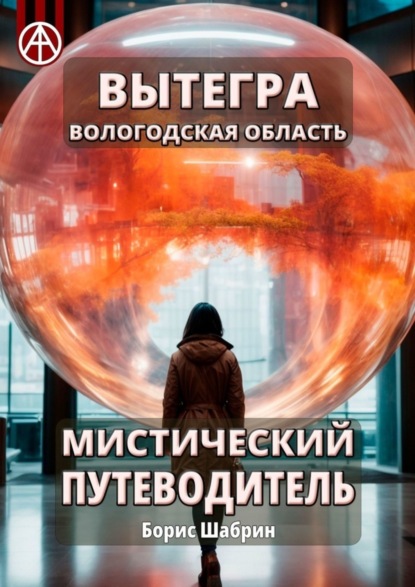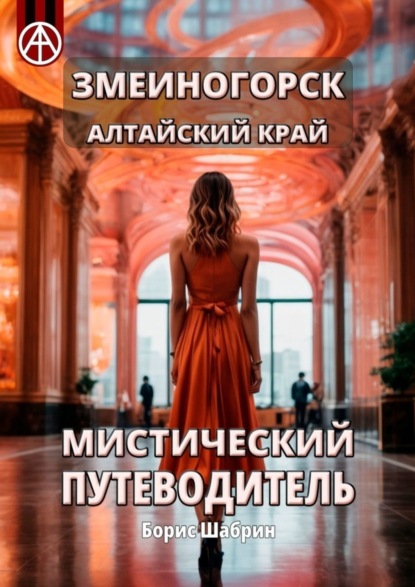Перебор Пустоты и гармония биполярного мироустройства
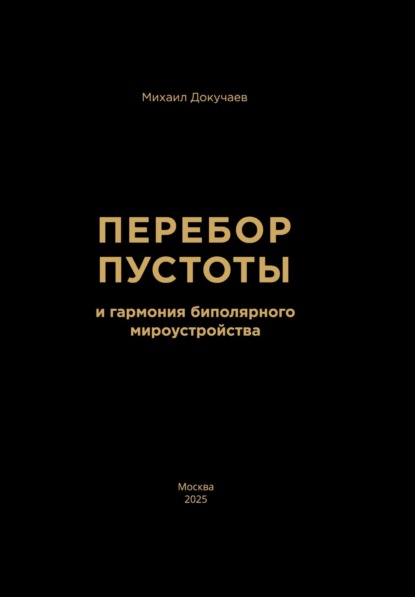
- -
- 100%
- +

© М. Докучаев, 2025
© Издательство «Наш мир», оформление, 2025
* * *Перебор пустоты и гармония биполярного мироустройства
Фундаментальная наука вплотную сошлась с теологией в понимании того, что наш мир сотворен из ничего, однако ни одна из сторон пока не способна переступить через порог небытия. Одних не пускает Создатель, у других пока не все сходится с расчетами и результатами экспериментов.
Держась научных наработок, попробуем подойти к этой проблеме не через формулы и графики, и конечно же не через постулаты креационизма, а посредством очевидных аналогий и коррелятов. Будем исходить из допущения того, что мир рожден по единым законам и технологиям «сотворения», переносящим в него из пустой материнской первоосновы ее симметрию и гармонию вместе с предопределяемыми ими законами сохранения и принципами детерминизма. Признавая при этом абсолютное безразличие для сложившегося мироустройства то, как мы назовем его «творца» – Природой, Провидением, Абсолютным Духом, Пустотой либо чем-либо еще. Попытаемся рассмотреть эволюционную востребованность всех известных нам форм материальности исходя из их изначального небытийного происхождения, внимая оккамовскому призыву не множить без надобности сущности, равно как и соломоновому напутствию не наращивать излишним знанием свои скорби.
Предлагаемое исследование, изложенное порой в слегка ироничной подаче, откроет совершенно неожиданные смыслы материализационных процессов, проявляющихся вокруг нас, в т. ч. в живой природе, социуме и когнитивной сфере. В конце концов, что нам мешает из любопытства, не выходя за границы научности и здравого смысла, пошарить во мраке пустоты? Неспешно и осторожно, чтобы ненароком не потревожить какую-нибудь мирно спящую там черную кошку Конфуция. Или не спугнуть затаившегося в ожидании своего непредсказуемого исхода кота Шредингера. И, быть может, мы обнаружим, что в этой пустоте сокрыт целый мир. Или даже бесконечное множество миров, один из которых – наш, любимый.
Дисклеймер: текст подготовлен с использованием естественного интеллекта с допущением свойственного ему эволюционного несовершенства.
Пустословие (вместо предисловия)
«Лучше уже сочинять новый вздор, чем повторять старый», – заявляет Д. Менделеев в одной из своих последних работ в безуспешной попытке постичь природу мирового эфира [1], и столь откровенный методологический подход мастодонта науки вселяет уверенность в наших начинаниях.
Проблема космогенеза будоражит умы многих, поскольку без постижения реальной первоосновы, причинности и смысла возникновения универсума невозможно понять сущность и резон нас самих и всего, что нас окружает – из чего и для чего «все это» создано?
Безусловно, данный вопрос должен решаться с передовых позиций астрофизики и квантовой механики, с высот заоблачных обсерваторий и из глубин адронных коллайдеров. Должен, но… не решается. Предлагаемые научные гипотезы поражают витиеватостью формул и филигранностью расчетов, однако не дают внятных объяснений того, что действительно бередит ищущие умы. Теоретики мироустройства уперлись в точку космологической сингулярности, как, скажем, античные мудрецы в первичность воды или огня либо в неделимость атома. А что за всем этим стоит?
Молчит наука, косвенным образом подтверждая слова Л. Толстого о ее бесполезности в разрешении главных задач человечества, поскольку «без науки о том, в чем назначение и благо человека, не может быть никакой науки» [2]. Прав Фауст, пергаменты жажды не утоляют. Да и путь к Творцу изрядно истоптан, однако покуда никого не привел к ответам на искомые вопросы. И все это крайне печально. Ведь, согласимся, каждый пришедший в этот мир, прежде чем оставить после себя, выражаясь определением Ле-Дантека, «минеральное воспоминание», имеет право найти приемлемые для собственного удовлетворения ответы на самые важные, пока неразрешенные вопросы: Как действительно возникла вселенная? Каким образом зародилась жизнь? Какова «механика» сознания? По каким законам развивается история человеческого общества? И еще для чего пришел сюда ты сам? Зачем ты был здесь? Что тебе здесь было нужно?
И действительно, постижение мироустройства, основанное на понимании реальности, всегда сводится к поиску смыслов. «Cui prodest (Кому это выгодно)?», – ставят во главу угла вопрос юристы, пытаясь докопаться до корней криминала. «Quid punctum?» – именно так должен формулировать конечную цель своих размышлений ищущий истоки мироздания. – «В чем его смысл?», «Чем оно востребовано», «Для чего оно необходимо?»
Современная космология и наука в целом по многим позициям уже вышла на уровень понимания того, КАКИМ ОБРАЗОМ осуществляются те или иные процессы в микро- и макромире, по некоторым из них – В СИЛУ ЧЕГО они реализуются, но ни по одной – ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ? Ведь даже религию авторитетный American Heritage Dictionary определяет как совокупность верований не только о причине и природе существования вселенной, но также и о ее цели [3], впрочем, также не предлагая на эти вопросы внятных ответов. Телеологическая непроясненность, проблема смыслов не подпускает нас к реальному постижению окружающего мира, а значит и постижению нас самих как его части.
Но ведь бессмысленность может быть присуща только тому, чего нет в реальности, т. е. небытию, пустоте. Любое существование чего-либо, т. е. любая отличная от небытия материализованность, должна иметь свой вполне четко выраженный экзистенциональный смысл, свой онтологический резон. В этом, по сути, и заключается принципиальное отличие того, что есть, от того, чего нет. Однако разобраться в вопросах сотворения бытия пока оказывается не способна ни теология, ни наука. Разномастные полигисторы обходят стыдливым молчанием важнейшие узлы мироздания, включая вопросы возникновения материи, жизни и разума, что де-факто превращает их «теории всего» в пустословные «теории ничего». И не проще ли тогда действительно взять за основу реальную «теорию ничего», которая как раз бы и объяснила это «все», как бы это парадоксально не звучало? Не разумнее ли, попросту выражаясь, принять концепцию возникновения мира из пустого субстрата, уже хотя бы потому, что только небытие в отличие от всего (абсолютно всего!) остального не требует объяснения причин своего происхождения и существования. Ведь иной основы, пусть и виртуальной, от которой можно было бы оттолкнуться в своих рассуждениях, у нас попросту нет.
Отсюда неудивительно, что проблема исходной небытийности оказалась в фокусе внимания не только теологии (прежде всего, креационизма), но и передовой науки. Так, А. Эйнштейн, а вслед за ним и С. Хокинг предрекли возможность существования энергии как фундаментального свойства пустого пространства, Э. Трайон выдвинул гипотезу возникновения вселенной в результате флуктуации вакуума, Я. Зельдович обосновал теоретическую возможность образования мира из пустоты, А. Виленкин анонсировал идею квантового туннелирования материи из ничего с ее последующим инфляционным расширением… Обрела признание т. н. теория Большого взрыва, которая, с одной стороны, недвусмысленно указала на конечность нашего мира, определив начальную по времени точку его образования, а с другой высветила не менее глобальный, хотя и весьма кощунственный вопрос: «Если до этого момента ничего не было, то что же там так шандарахнуло? Какая-такая неведомая субстанция смогла столь масштабно сдетонировать? И из чего образовалась она сама?»
Интерес к «пустой» теме продолжает экспоненциально нарастать, находя все новых своих приверженцев. Наряду с научными изысканиями небытийная проблематика оказалась привлекательной и для целого ряда философских исследователей, в т. ч. отечественных.
Среди работ последних отметим: «Трактат о небытии» Арс. Чанышева [4]; «К вопросу о понятии «ничто» А. Селиванова [5], «Небытие как виртуальное основание бытия» Р. Нуруллина [6]; «Философия ничто и нулевого мира» Г. Легошина [7]; «Небытие и бытие сознания в ранних формах индийской, китайской и греческой философии» Д. Родзинского [8]; «Метаморфозы бытия и небытия: опыт построения современной онтологии» М. Кагана [9]; «Ничто: введение в нигилософию» М. Бойко [10]; «Диалектическое решение проблемы небытия в истории древнегреческой философии» А. Богомолова [11] и др. Попытка системного подхода к вопросам небытийной проблематики предпринята Н. Солодухо в его монографии «Философия небытия»[112].
На данном фоне представляется вполне позволительным, игнорируя мудрое наставление Плиния Младшего «лучше ничем не заниматься, нежели заниматься ничем» [13], предложить иной подход к проблеме «ничтожности», по которому автор еще в конце (О. Боже!) прошлого тысячелетия имел переписку с Арс. Чанышевым и журналом «Вопросы философии». В его основу было предложено положить, помимо здравого смысла: с одной стороны – принцип соответствия, т. е. непротиворечивости базовым принципам науки; с другой – экстраполяцию наблюдаемых в природе общепризнанных тенденций и закономерностей на те области знания (а точнее не-знания), объяснение которых на данный момент не может быть подтверждено имеющейся доказательной базой. Поскольку любые скрытые причинноследственные связи в механике мирового развития всегда находят свое проявление в очевидных и понятных для всех аналоговых параллелях. Руководствоваться разумом и здравым смыслом нам предписывает сама природа именно в силу того, что они, – эти самые разум и здравый смысл, – сами по себе есть продукты эволюции мира, ее производные. Они сформированы в рамках общих законов и принципов мироздания и превнесены в сознание людей с тем, чтобы вести их общеэволюционным путем, не позволяя сбиваться на тупиковые или малоперспективные тропы человеческого соблазна либо недоумия.
Говорят, величайшие истины – самые простые и понятные, и это действительно так. Сами ученые шутят: даже не обладая гением Лобачевского, можно увидеть, что параллельные аллеи (или рельсы) сходятся на горизонте. А версия бесконечно-вечной статичной вселенной просто, но весьма убедительно опровергается известным парадоксом Генриха Ольберса о темноте ночного неба.
В конечном счете, неважно, кто, каким образом и с помощью каких средств пытается отыскать дорогу в сумрачном лесу. Важно ее найти. А еще важнее – отыскать ее предназначение, ее резон. Ведь отсутствие смысла сводит к никчемности все попытки отыскания нашей собственной идентичности в окружающем мире.
В данной публикации предлагается краткая версия данного подхода к осмыслению вопросов мироустройства без каких бы то ни было претензий на истину. Подхода, который лично для автора (и возможно только для него) просто, внятно и логично раскрывает востребованность и принципы работы вселенского механизма мироздания, объясняет причинность возникновения жизни и формирования разума, а также укладывает историю социума в единый процесс эволюции природы.
Изложение полного варианта исследования по указанным вопросам будет возможно лишь тогда и лишь для тех, когда и для кого данная проблематика возбудит реальный интерес.
Автор желает приятного чтения и приглашает к обсуждению.
Часть 1. Ничтожность начал
Глава 1. Жажда небытия
Horror vakui – всеобъемлющий страх пустоты, неизменно перерастающий в любовь, надежду и истинную веру, основанную на научных принципах. Пустота подсознательно очаровывает человечество и овладевает его разумом. Все дороги – и дольние, и горние – ведут из ниоткуда в никуда. Так что же такое это Ничто?
Ex nihilo nihil fit?– «Из ничего ничего не возникает», – гласит известная максима, еще в античности введенная в оборот то ли Парменидом Элейским, то ли его учеником Мелиссом Самосским, а затем подхваченная их философствующими собратьями. Адепты этой прокрустовой формулы наслаждаются ее простотой и кажущейся очевидностью, полагая, что она идеально демонстрирует суть многочисленных законов сохранения.
– Ну и откуда же тогда появилось «это все»? – зададимся мы вечным и наивным вопросом. Уподобляясь Вольтеру, мы пытаемся отыскать творца этого огромного механизма, в коем каждый из нас – еле заметное колесико.
– Материя возникает из самой себя и выступает источником движения самой себя, – глубокомысленно отвечают нам оппоненты, шурша страницами учения, всесильного, по их мнению, в силу его верности. И мы едва сдерживаем ухмылку, вспоминая барона Мюнхгаузена, вытаскивающего самого себя за волосы из болота вместе со своим конем.
Нас засыпают мудреными формулами и заумными доказательствами автогонии мира (так К. Циолковский называет процесс сто самозарождения), но здравый смысл подспудно возвращает нас к кощунственному скепсису. – Нет, не поедет телега без лошади.
* * *«Из ничего ничего не происходит», – слышим мы на каждом шагу. Нас уверяют, что основа вечного движения – единство и борьба противоположностей. Но какой Творец разрывает монолит единого на враждующие полюса? И что является источником их противостояния?
Мы отвергаем идею вечного двигателя (даже при допущении первичного внешнего толчка) в силу ее противоречивости столь милым нам законам сохранения, так будем же последовательными до конца – любое движение материи не может не быть конечным. По причине энтропии любая материальная система в конечном итоге разупорядочивается и утрачивает изменчивость, а значит ничтожится и сама материя, оставляя после себя лишь тайну своего изначального возникновения. Так что же там за краем бездны?
Horror vakui – таково название синдрома, свойственного всем нам, – страх пустоты, боязнь переступить за пределы материального мира. Впрочем, время и разум врачуют и это. Известно ведь, что от ненависти до любви лишь один шаг. «Ничто» страшит, но одновременно с безумной страстью влечет нас в свои объятия, манит заглянуть в пропасть небытия. Где же еще искать ответ на наши сакральные вопросы, повисшие в безмолвии, как ни там?
Творение из ничего как основа креационизмаНо не одиноки ли мы в этих, во всех смыслах пустых и никчемных, исканиях? Не смешны ли мы «в миру» в наших блужданиях в поисках небытийной первоосновы в глазах здравомыслящего человечества? Быть может, в сотворение мира из пустоты верит только неразумное и наивное меньшинство?
Ан, нет, возражения несогласных с таким подходом не похожи на глас вопиющего в пустыне. Посмотрим, кого именно следует причислить к этим «немногим верящим», а точнее – «верующим». Начнем с тех, для кого пустой субстрат является краеугольным камнем их мировоззрения, основой основ их системных представлений об универсуме.
Во-первых, это приверженцы даосизма, поддерживающие воззрения Лао-цзы, а также адепты канонов китайских традиционных религий («Сущее исходит из несущего». «Все возникает из Небытия и, совершив цикл своего развития, растворяется в нем» [1]). Таковых в мире сотни миллионов.
Согласно концепции даосизма, изначально была пустота – У-цзи (неизвестное), рождающая две основные формы энергии: Инь и Ян. Комбинация и взаимодействие последних образуют ци – энергию, из которой возникает все, что существует.
Во-вторых, представители буддизма с его учением о шуньяте («божественной пустотности»), а во многом и индуизма. Это новые сотни миллионов, во вселенной которых, по определению Арнольда Тойнби, даже «боги в обыденном человеческом понимании автоматически сводились к небытию» [2].
Попутно отметим, что помимо представителей древнейших в мире культур, в числе которых мы уже упомянули китайскую и индийскую, воззрений о сотворености мира из небытия придерживались и давно исчезнувшие американские цивилизации ольмеков и майя.
В-третьих, к вышеуказанной категории верующих примыкают адепты суфизма – исламского течения с представлениями о мире как «универсальной пустоте». Сегодня число «почитателей шерстяных одеяний», пребывающих фактически во всех исламских странах (и не только), также исчисляется многими миллионами.
Достаточно? Однако мы упомянули лишь те, выражаясь языком Льва Гумилева, «мировые философские системы с миллионами поклонников, которые считают вакуум своим идеалом» [3].
Но нет, этим «жалким миллиардом» мы не ограничимся, поскольку пока лишь перечислили только тех, кто целенаправленно закладывает пустоту в основу конструкции своей идеологии. Наряду с ними существует множество таких, для которых пустая первооснова – не прямая, но косвенная, естественным образом сопутствующая и сознательно принимаемая составная часть их миропредставления.
Дабы не погрешить против «истины», к данной категории правильным будет причислить всех христиан, а их – треть населения Земли, для которых центральной догмой мирообразования выступает «creatio ex Nihilo» – «сотворение из ничего», посредством которого Создатель своим волевым актом переводит всё сущее из состояния небытия в состояние бытия («productio totius substantiâ ex nihilo sui et subjecti»). Данное положение не только прописано в Библии, но в 1215 г. было дополнительно закреплено специальным постановлением IV-го Латеранского собора римско-католической церкви, проведенного под кураторством папы Иннокентия III [4]. При этом и сам Творец в христианской религии предстает как некто «ни от мира сего», «с того света» неявного бытийствования. Ведь по свидетельству самих евангелистов: «Бога не видел никто никогда» [5].
К христианам присоединим, помимо уже упомянутых суфиев, и всех остальных мусульман – составляющих почти четверть жителей нашей планеты, по убеждениям которых Аллах за шесть дней «извлек мир из абсолютного небытия». А также большинство конфессий иудаизма [6], насчитывающих миллионы адептов, в т. ч. каббалистов с их «Эн-Соф» («Беспредельным Ничто») и хасидов с присущей им концепцией «Йеш ме-Айин» («Сущего из ничего»). А вслед за ними схоластов, верующих в «Божественный мрак», и представителей многих иных религиозных направлений «ничтотворительной» направленности.
На creatio ex nihilo также указывает ряд фрагментов из Книги пророка Исайи, Книги Питчей Соломоновых и Псалмов, Книги пророка Амоса и неканонического еврейского текста Второй книги Маккавеев о сотворении Богом неба и земли «из того, чего не существовало» и др.
Сколько там набирается? Получается, что подавляющее большинство обитателей земного шара либо свято верует в сотворение мира из небытия, либо попросту поддерживает такого рода подход к проблеме космогенеза как само собой разумеющийся и не имеющий внятно объяснимых альтернатив.
Но не сами ли мы единым демократическим хором воспеваем принцип «Vox pópuli vox Déi» [7], придавая мнению большинства чуть ли не статус абсолютной истины? Как гласит народная мудрость: «Одного можно обманывать бесконечно долго, один раз можно обмануть многих, но бесконечно обманывать многих нельзя». Просто потому что невозможно подняться выше коллективного разума.
Безусловно, вполне уместны серьезные вопросы к содержанию и логике построения вышеназванных религиозных систем, однако, согласимся, людям нельзя отказывать в разумности, в какие бы формы они не облачали свои верования, ибо все они – потомки и хранители традиций и заветов своих древних народов, сумевших подняться на вершину эволюционного отбора, вышедших победителями в жесточайших многовековых схватках с природой и судьбой за жизнь и возможность иметь свое представление основ мироздания. И для нас нет резона (да и права) вторгаться в моральнонравственное содержание их догматов – принципиально важно лишь то, что все эти теологические направления отбрасывают в своих космогониях материю как causa sui [8], основываясь на специфике своего видения мироустройства.
* * *Представлений об изначальной пустоте мира на протяжении многих веков придерживались адепты большинства богословских течений, онтологический аспект которых выражен креационизмом – теогоническими концепциями о сотворении мира Создателем в творческом акте из ничего. Тертуллиан совершенно справедливо замечает, что если бы не было изначальной пустоты и материя была вечной, то отпала бы необходимость в самом боге [9]. Рождение бытия – действительно ключевой и самый таинственный акт мироустройства, возможно даже для самого Творца.
«Всевышний знает ли такой прехитрый трюк, чтоб нечто обратить в ничто совсем бесследно?» – вопрошает вонделовский Люцифер [10].
Патриархи теологии подспудно ощущают правомерность своей веры в сотворимость мира, однако, будучи не в состоянии объяснить природную суть этого процесса, прибегают к его верификации через мистику, хотя ныне все чаще обращаются и к научной аргументации.
Типичным примером таковой явилось объявление в 1951 г. папой Пием XII установленного космологией Большого взрыва доказательством сотворения мира и обозначение его «Божественным мгновением».
Оценивая креационизм непредубежденным взглядом, признаемся, что при всем несоответствии взглядов его адептов научным критериям, он обладает крайне ценным качеством – мертво держаться корней «творения», пусть даже еще непознанных и неосмысленных, и апелляция к сверхестественному – вполне надежное средство и верный ориентир для того, чтобы не сбиться с дороги исканий, подсказанной снизошедшей «духовной интуицией» или открывшимся «божественным наитием».
Одним из важнейших факторов, вынуждающих многих великих мыслителей вставать на платформу идеализма, выступает неприятие ими явно абсурдного утверждения их оппонентов о способности материи к самодвижению. «Я исхожу, прежде всего, из признания невозможности движения материи самой по себе, – заявляет Вольтер, – необходимо, чтобы она получала это движение извне; но она не может получить его от другой материи, ибо это было бы противоречием; следовательно, нужно, чтобы движение производила иная, имматериальная причина – бог» [11]. Схожего мнения придерживается Дж. Беркли [12] и многие иные философы.
Противостояние идеализма в его креационистской ипостаси и материализма заключается не только и не столько в специфике используемого ими инструментария и их отношении к разрешению т. н. основного вопроса философии. Разнонаправленно происходит становление их идейных основ. Первый развивается от небытия через мистифицированный «акт творения» к реальному миру, второй отталкивается от научно верифицированной «объективной реальности», все глубже проникая к исходным «ничтожным» истокам материи. А с общефилософской точки зрения они представляют две полярно-противоположные стороны единого процесса миропостижения, являя собой лишь одно из бесчисленных проявлений гармонии биполярного мироустройства, о которых мы будем говорить в нашем исследовании.
Где-то схожим образом рассуждает Генри Фильдинг: «…Из Ничто рождается все. Истина сия признана представителями всех философских школ, и единственное, в чем они расходятся, это: сотворило ли мир Нечто из Ничто, или Ничто из Нечто. Мудрецы всех времен причисляли себя к одной из сторон, явно в зависимости от того, тяготели они к духовной субстанции или к материальной. Те, кто склонялся к духовному, становились на сторону первых, те же, чей гений лучше умел постичь свойства материи… присоединялись ко вторым» [13].
У каждой кафедры свои сильные стороны, а потому – своя значимость и свои приверженцы в методах познания мироустройства. И если материалистам нужно отдать должное, что те, выбрав научную стезю, ушли от соблазна легкого пути обоснования божественного творения универсума, то креационистов следует уважать хотя бы за то, что они усомнились в вечности и бесконечности нашего мира. И еще вслед за Фомой Аквинским в попытках обоснования бытия бога указали на необходимость поиска первопричины всех вещей, их перводвижителя и целеполагателя [14].
В данном контексте в ряду адептов идеалистического направления особо выделим Спитама Заратустру, который по сути и отыскал причины движения в том, что ныне мы называем единством и борьбой противоположностей. В своем «Благом ви дении», принятом, как утверждают «Гаты» «Авесты», от бога Ахура Мазды, этот пророк сумел объединить несовместимости в едином и выделить биполярности в его монолите, выразив духовным языком то, что позже в квантово-волновом дуализме нашло подтверждение в виде принципа неопределенности В. Гейзенберга.
* * *Итак, если пренебречь механизмом творения, так сказать, «вывести за скобки» самого Создателя, и рассматривать только лишь первичный «материал» (субстрат) мирового строительства, следует признать, что идее возникновения вселенной из ничего привержено подавляющее большинство людей хотя бы в силу того, что данный «догмат», а по сути – данная парадигма, является краеугольным камнем основных мировоззренческих, прежде всего религиозных, систем, охватывающих своим влиянием гигантскую часть человечества.