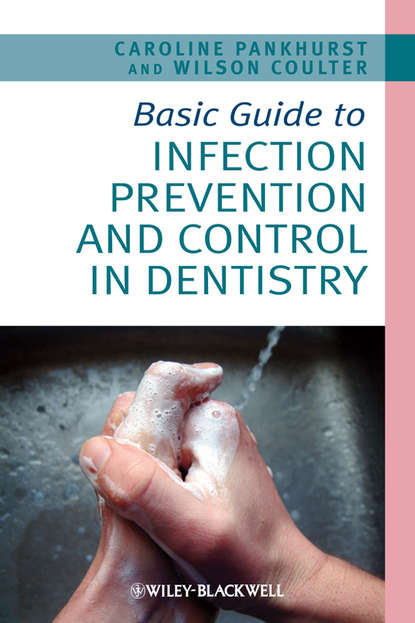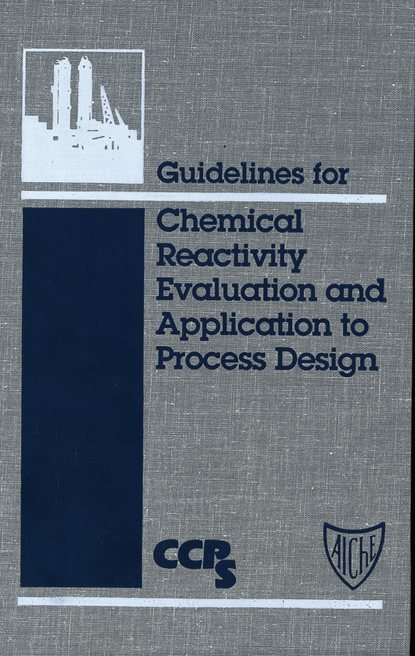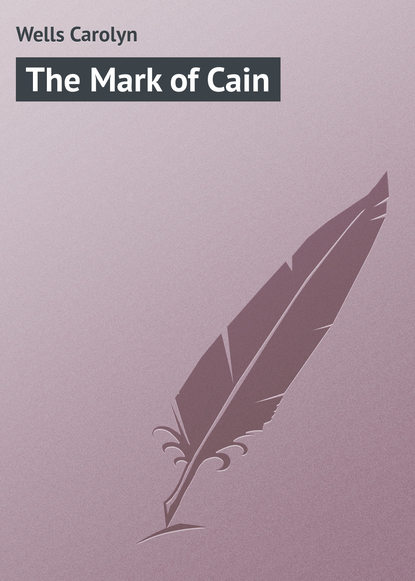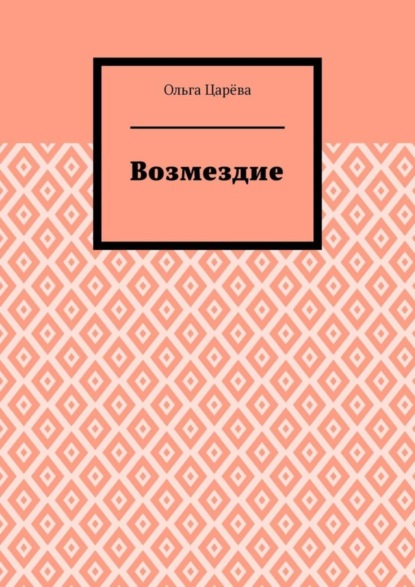Перебор Пустоты и гармония биполярного мироустройства
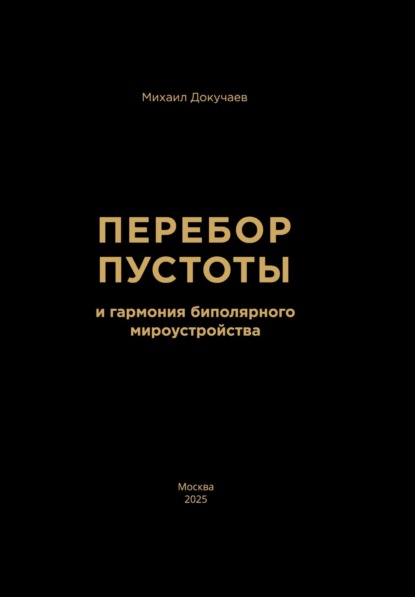
- -
- 100%
- +
Глава 2. Пустота – единственно возможный субстрат мира
Только пустота отвечает базисным критериям первоосновы: не требует обоснования своего происхождения, выражает предел качественного нисхождения, выступает идеальной моделью устойчивости и проявляет свой творческий ресурс посредством локальной изменчивости. Пустота воплощает мировую гармонию как антисимметрию с самой собой, математически выражаясь через ноль
Критерии первоосновыСуществуют вполне очевидные доводы в пользу того, что именно пустота выступает субстратом нашего мира, равно как и всех остальных гипотетических материальных миров, манифестируя некие «каноны истины», которых, как говорили древние китайцы, «оскорбляют даже сами попытки их доказательства» [1]. Данные доводы выражают собой предопределяемые простым здравым смыслом ключевые критерии «истинной» первоосновы как таковой, в соответствии с которыми она должна:
самообуславливать свое возникновение, развитие и уничтожение, то есть являться causa sui – причиной самой себя, не требующей участия в ее судьбе каких-либо внешних сил;
быть способной выступать в качестве базиса для формирования любой иной субстанции, равно как и всех их вместе взятых, то есть выражать предел качественного упрощения;
представлять идеальную модель самосохранения своей внутренней стабильности;
содержать имманентный, изначально присущий ей запас сил – некий ресурс развития, потенциал творения мира (миров).
Безусловно, все это должно находить доказательное обоснование и не противоречить ни научным принципам, ни здравому смыслу.
Итак, суть пяти базисных критериев первоосновы – ее способность обуславливать саму себя, выступать пределом простоты, обладать абсолютной устойчивостью, располагать внутренним «творческим» ресурсом рождения и развития любых материальных форм, а также удовлетворять принципу соответствия (научности).
Убедимся, что всеми этими качествами обладает только пустой субстрат.
Пустота не требует обоснования своего происхожденияО необходимости отыскания первопричины всех вещей заявлял еще Фома Аквинский, здраво полагая, что она может находиться только вне этих самых вещей, впрочем, выставлял это в качестве одного из доказательств бытия бога. Ведь помимо бога, по его логике, кроме вещей нет ничего [2]. В последнем он конечно же ошибался, поскольку помимо «вещей» есть ничто. А отождествлять это ничто с гипотетическим богом или нет – это дело онтологического вкуса.
Задумывались ли вы когда-либо, почему Зодчий вселенной, согласно всем ранее перечисленным верованиям, создал мир именно из пустоты? Да просто потому, что у него «под рукой» больше ничего не было. Любой иной «материал» отсутствовал. Весьма примечательно, что у большинства древних народов понятие «космос» («space») изначально как раз и обозначало «пустое место». К примеру, у китайцев «космос» («тайкон») всегда предполагал выражение «великой пустоты». Лишь позже у некоторых народов, прежде всего европейских, данное слово обрело смысл «упорядоченности».
По сути об этом же говорит и современная астрофизика. Космической пустотой «заполнены» почти вся межгалактическая среда вселенной, внутреннее пространство галактических, звездных и планетных систем, равно как и самих атомов, в которых нуклоны занимают лишь одну триллионную часть всего атомного объёма, а делокализованные по своей позиционности электроны, пребывающие одновременно «везде и нигде», вообще являют собой пространственный контент, близкий к виртуальному. Схожая ситуация складывается с кварками и глюонами, из которых состоят кажущиеся относительно массивными сами атомные ядра. Вот он реальный мир, фактически исполненный ничтожеством.
Итак, у гипотетического мироустроителя была только пустота, ибо только она самообуславливает свое происхождение и не требует для своего генезиса вмешательства внешних сил, в т. ч. творческих ресурсов божественной природы. Хотя бы потому, что ни одно священное писание не содержит указания на то, что Господь сотворил небытие.
Из всех рассмотренных выше конструктов креационизма видно, что наиболее уязвимым их звеном является сам миросозидатель, то есть изначальная данность «механизма творения». Откуда он появился? Банальный вопрос о Творце самого Творца вновь погружает нас в бездну вечной и бесконечной «объективной реальности, данной в ощущениях», по сути ничем не отличающейся от парадигмы ортодоксального материализма. Пожалуй, в решении данного вопроса среди всего сонма теологов точнее и честнее всех оказывается Эриугена, который сопоставляет ничто непосредственно с Творцом, создающим мир из самого себя – сотворение из ничего («creatio ex nihilo») есть сотворение из Бога («creatio ex Deo») [3].
Утверждая везде и во всем незыблемость принципов детерминизма, для любого объекта материального мира мы обязаны различать причины и условия его возникновения и развития, причем лежащие за пределами этих объектов. В противном случае причина отождествляется со следствием, что означает отрицание любого рода динамики (движения) и изменчивости как таковой.
Единственной субстанцией, не требующей внешних причин и условий для своего сотворения, является пустота, не нуждающаяся в причинно-следственных связях, обоснованиях и объяснениях, откуда она появилась, кто ее сотворил, почему она именно такая и почему она вообще есть (или почему ее вообще нет). Небытие – единственное, что способно обусловить существование самого себя, и это есть первое очевидное обоснование пустоты как субстрата мира. Не требуется механизма создания того, чего нет. Для сотворения «ничего» не требуется никаких причин и условий, равно как и доказательств этого. И здесь как никогда справедлив Джордж Беркли, заявляя о необходимости доказывания существования материальных объектов, а не отсутствия оных [4].
«Ничто, небытие как исходное отсутствие чего-либо ничем не обусловлено, – пишет Натан Солодухо. – Для того чтобы ничего не было, ничего и не надо: не требуется никаких и ничьих усилий. Поэтому именно Ничто, Небытие исходно, изначально и есть действительная «causa sui», не требующая ни в чём другом своего основания. Поэтому именно Ничто, Небытие и может служить действительной субстанцией мира, выступать первопричиной и основой всего реально существующего, т. е. Бытия» [5].
Пустота – предел качественного нисхожденияФилософия всегда нуждалась в категории небытия и всячески стремилась к нему, хотя зачастую и неосознанно. Она усердно занималась изысканиями запредельно простой первоосновы, без которой любые системы мироосмысления оказывались зыбкими и субтильными. Ей всегда недоставало прочного фундамента, надежного исходного субстрата. Однако попытки приведения любых субстанций к предельной качественной упрощенности непременно завершались их полным ничтожением, сведением «к нулю».
Не возымели успеха ни античные потуги возведения в ранг субстрата мира «первоэлементов» в виде воды, воздуха, земли и т. п., ни последующие устремления сделать ставку на атомы, кварки, эфир, электромагнитное поле… Николай Лосский был прав, заявляя, что вопрос о сверхмировом начале является труднейшим в философии [6].
И действительно, тяжело искать в темной комнате то, что является ничем. По всей видимости, именно непонимание первопричины универсума и одновременно боязнь соприкосновения с непостижимым «творцом» облекли представления о мире в контуры «вечной и бесконечной объективной реальности», по сути поставив философию в позу страуса. Ни древние мудрецы, ни современная физика пока так и не нашли в природе вечных и неизменных начал, этакого шарденовского «предела нисхождения» [7]. «В фундаменте мира все так же изменчиво, как и на его верхних этажах. В результате мир плывет и проваливается в небытие», – констатирует Арс. Чанышев [8], попадая в самую суть обозначенной проблемы.
Бесперспективность поисков материального субстрата бытия подспудно наталкивает на вполне здравую мысль о том, что его просто нет. Нет, ибо нулевая координата лежит вне границ материи, вне бытия. Иными словами, первооснова ничтожна и отождествляется с пустотой, небытием. Таким же образом Нагарджуна, открывая в окружении Будд и ботхисаттв одну за другой все ступы, в конце концов обнаруживает, что первосубстанции нет и быть не может.
Мартин Хайдеггер в своих размышлениях о первоначалах бытия, также приводит нас к выводу о том, что в постижении существующего необходимо начинать ни с нечто, а именно с ничто, поскольку «ничто более просто и более легко, чем нечто» [9]. А потому, следуя принципу парсимонии, не будем без надобности множить сущее и отсечем оккамовой бритвой всевторичное и производное.
Итак, следующее очевидное обоснование небытия как субстрата мира: пустота есть предел простоты, дно регрессии материи, граница качественного нисхождения, за которой – абсолютный абсурд.
Здесь небытие и есть та ничтожная субстанция, которую древние китайцы обозначали как «беспредельный великий предел». При этом заметим, что с данного ракурса небытие как гипотетическая (пока еще) первооснова бытия одновременно представляется и сложнее последнего по своему качественному содержанию, поскольку содержит его в самом себе, в своей потенции – в полном соответствии с законом эмерджентности, по которому целое всегда имеет особые свойства, отсутствующие у его части.
Пустота – идеальная модель устойчивостиДля безупречной первоосновы мира мало быть самообуславливаемой и выражать предел простоты. Она еще должна обладать абсолютной устойчивостью, качественной незыблемостью.
Устойчивость любой системы предопределяется ее внутренней организацией (связанностью составляющих ее частей), которая требует ресурсов своего обеспечения, т. е. действия сил, противостоящих дезорганизации. При недостаточности либо отсутствии таковых верх одерживают энтропийные процессы, приводящие систему к максимально устойчивому уровню посредством ее дезорганизации и сведения к состоянию предельно возможной стабильности.
Что же может обеспечить устойчивость самообуславливаемой и сверхпростой системы? – Ответ дают физики, которые однозначно утверждают, что устойчивыми способны быть только динамические системы. Да и вообще статичность любых тел или систем они исключают как противоречащую принципам квантовой механики. Касаемо пустоты, такой подход означает, что «механизм» обеспечения ее стабильности выражается ее внутренней динамикой, предопределяющей в своей совокупности ее статичность. Тем более, что небытийная изменчивость в нашем понимании ничем не отличается от ее неизменчивости.
А точнее находится в неопределенном для нас состоянии, которое, как во всеми любимой песне, «трудно высказать и не высказать» на фоне речки, которая «движется и не движется», и песни, которая «слышится и не слышится» [10].
Вместе с тем, для самой пустой первоосновы это кажущееся нам безразличие ее внутреннего движения и покоя как раз и выступает основой ее предельно возможной стабильности. Более того, сама изменчивость пустоты обуславливается именно востребованностью ее неизменчивости для обретения ей своей внутренней сбалансированности и качественной устойчивости, поскольку любая субстанция самопорождает изменчивость посредством своей энтропийной устремленности к низшему энергетическому уровню, т. е. к полному самораспаду. Пустота, не обладающая внутренней активностью, попросту не являлась бы мерилом самостабилизирующего низшего качественного состояния. Образно говоря, лишившаяся изменчивости пустота окажется неустойчивой подобно тому, как это произошло бы с остановившимся велосипедом или с гипотетически утратившей динамику Солнечной системой.
Так и согласно Библии, до сотворения мира «Дух Божий носился…» [11], т. е. не покоился, а «стремительно перемещался», обеспечивая тем самым целостную бездвижность небытия.
Как видим, только пустота являет собой идеальную модель устойчивости, т. к. ее неизменчивость сбалансирована с ее совокупной изменчивостью (хаосом), выступающей гарантом равновесности системы, ее внутренней антисимметрии и гармонии, предполагающей единство конфликтующих сторон. Хаос пустоты, тождественный ее покою, обеспечивает пустоте возможность совокупно оставаться самой собой – настоящая небытийная эквилибристика. Выражаясь языком экономистов, ее статика хеджирована ее совокупной динамикой. Схожий конструкт нередко встречается в античной философии, особенно у стоиков, у которых, по свидетельству Секста Эмпирика, пустота определяется как «бескачественная материя, изменяемая во всех направлениях» [12].
Итак, идеальной первоосновой способна выступать именно изменчивая пустота, выступающая формой полной дезорганизации неизменчивой пустоты, а потому и гарантом ее предельно возможной устойчивости. Там же, где происходят спонтанные нарушения баланса совокупной изменчивости и неизменчивости, возникают материализационные процессы, призванные восстановить антисимметрию и гармонию пустого субстрата, о чем мы будем говорить позже.
А пока с этих обозначенных нами в общих чертах позиций задержим на минуту наш нарратив и условно поставим себя на место тех, кто отвергает идеи естественной (эволюционной) сотворимости бытия и призывает принять существующий мир как данность. Будет ли такой мир извечно устойчивым? Непредубежденное следование известным физическим принципам и началам неотвратимо укажет нам на конечную судьбу этой «данности», которая энтропийно отыщет свою стабильность в субстанции ничтожного качества. Просто потому, что perpetuum mobile, как нам заявляет наука, в природе не существует.
В данном вопросе многие космологи заняли, мягко выражаясь, многовекторную позицию, выступая против «творения» и одновременно «поддерживая» вечное движение. Тут бы неплохо определиться, как в известном анекдоте – либо крестик снять, либо мантию ученого.
Стабильной и качественно безупречной в своей совокупности остается лишь пустота. Только небытийность выражает идеальное состояние физической системы, характеризуемое ее суперсимметрией (гармонией с самой собой), поскольку самоустремленность такой системы к предельно низкому энергетическому уровню сводит ее к качеству пустоты, устойчивость которой предопределяется равновесностью ее неизменчивости и совокупной изменчивости.
Пустота обладает потенциалом творенияСогласимся, для того, чтобы принять пустоту как первооснову материи, необходимо привести серьезные обоснования, весомые доводы в пользу того, что небытие, исходя из его имманентных свойств, способно быть причиной генезиса и становления бытия, ибо, как справедливо замечает Рене Декарт: «Причина должна содержать в себе, по крайней мере, столько же реальности, как и ее действие» [13].
Нечто схожее Арс. Чанышев называет «эмерджентным модусом бытия»: то, что содержится в бытии, возникающем из небытия, должно было заключаться и в самом небытии [14].
Самое важное, что мы можем сказать о такого рода причине, рассуждает Циолковский, «это то, что она не только нечто высшее Вселенной, но и то, что она не имеет ничего общего с веществом… Причина должна иметь способность ликвидировать и производить материю» [15]. И с этим не поспоришь.
Для начала рассмотрим, какими же качествами обладает пустой субстрат.
Первая реакция естественна: никакими. Поскольку пустота – это отсутствие чего бы то ни было, кажется абсурдным отыскивать в ней какие-либо свойства. Увы, научные законы и принципы, выведенные исходя из исследования материального мира и проявляющие себя исключительно в рамках материи, не имеют никакого отношения к пустоте, в которой нет ни времени, ни пространства, ни различимой энергии… В которой нет ничего. Они неприменимы к небытийному субстрату, подобно тому, как законы Ньютона оказываются бессильны для описания явлений квантового мира, а уравнения Эйнштейна перестают действовать в условиях сингулярности.
Однако, вновь вернемся к вопросу об устойчивости пустоты, основой которой выступает ее совокупная изменчивость, эквивалентная неизменчивости. Разве динамика пустоты и ее статика – не одно и то же? Ведь, как мы уже сказали, подвижность небытийного субстрата с нашего материального ракурса ничем не отличается от его покоя.
Формальный анализ данной проблемы приведет нас к следующим заключениям:
Пустота статична, ибо в ней отсутствуют:
объект (субстанция) изменчивости (в ней ничего нет);
различимая причина (движитель), обуславливающая эту изменчивость, т. е. энергия, необходимая для приведения покоящейся системы в движение (им не от куда взяться извне);
пространственно-временной континуум, способный служить агентом, средой, фоном или индикатором какой-либо динамики.
Все это так, но необходимо услышать и доносящийся сквозь толщу тысячелетий глас великого Лао-цзы, называющего покой «господином подвижности» [16]. Придется признать и обратную сторону этой когерентной суперпозиции: «Eppur si muove!» («И все-таки она вертится!»). Все-таки она еще и изменчива. Уже хотя бы потому, что состояние покоя, как мы уже сказали, запрещено законами квантовой механики.
А если предметно, пустота динамична, поскольку:
ее изменчивость тождественна ее постоянству (никакой материально ощущаемой разницы мы не воспринимаем);
отсутствие материальных взаимодействующих объектов (частиц, элементов и т. п.) и причинной взаимосвязи между ними обуславливает способность условных (виртуальных) квантов пустоты находиться одновременно в любой точке небытийного континуума, подобно тому, что мы считаем экспериментально подтвержденным и научно доказанным, к примеру, применительно к делокализованным электронам в оболочках атомов;
абстрагированность пустоты от внешних источников воздействия, ее нахождение вне законов причинности и взаимообусловленности предопределяет ее способность трансформироваться в саму себя и обладать любой внутренней структурностью;
и, наконец, самое главное: изменчивость пустоты предопределяется неустойчивостью ее статичности, стремящейся к переходу в более стабильное состояние динамического равновесия.
Физика, как мы знаем, определяет вакуум как низшее и основное энергетическое состояние квантованного поля с нулевыми квантовыми характеристиками (импульса, момента импульса и др.). Эта «зануленность» пустоты в состояние низшего энергетического уровня и предполагает ее биполяризацию как одновременное проявление в ней организующего начала, оформляющего ее пустое неизменчивое качество, и дезорганизующего начала, обеспечивающего устойчивость этого качества своей совокупной изменчивостью. Последняя в частных своих манифестациях и выражается в квантовой неопределенности.
Будучи изолированной от какого бы то ни было внешнего воздействия и предоставленной самой себе, пустота является внутренне самосбалансированной системой. Вся совокупно взятая ее имманентная изменчивость уравновешивает саму себя, предопределяя ее совокупный покой, который можно обозначить как обуславливаемую антисимметрией гармонию. Иными словами, пустота расчленяет свою статичность на совокупность взаимоуничтожающей динамики. Совокупность противоположностей есть ничто, равно как и само ничто можно выразить как совокупное нечто, существующее в виде фрагментированных взаимонейтрализующих противоположностей. Этим обуславливается принцип симметрии (а точнее – антисимметрии) со всеми присущими ей законами сохранения.
Вместе с тем, эти частные противоположности, выражающие пустоту в своей совокупности, на обособленных локальных треках выступают как «нечто», отличное от неизменчивого «ничто». Оно есть дисгармония, частное расстройство антисимметрии «ничто». И эта локальная изменчивость пустоты несет в себе потенциал частного виртуального действия (ресурс изменчивости – РИ), предполагая, что обособленно от него возникает соответствующий ему потенциал частного виртуального противодействия.
При определенных условиях, к примеру, в результате локальных коллизий частных изменчивостей, природу которых мы рассмотрим позже, возникают флуктуации, т. е. возмущенности. Возмущенность – по сути та же изменчивость в плане ее отличия от покоя, однако это уже совсем не та изменчивость пустоты, которая утверждает стабильность ее неизменчивости. Это уже изменчивость дезорганизации пустоты, порождающая ее локальную неустойчивость и тем самым вызывающая ее абсурдирование, трансформацию в состояние не-пустоты, т. е. материи. Запертый в коллапсе ресурс изменчивости находит возможность своей реализации во внепустотной, т. е. в бытийной среде.
Возмущенность пустоты выражает степень нарушения сбалансированности между ее неизменчивостью и совокупной изменчивостью, проявляя сходство по своей природе с понятием разности потенциалов (напряжения) в электродинамике. Лишь только нарушается баланс между полюсами в электрической цепи, так тут же начинается движение заряженных частиц – пошел ток, закипела работа, появились ее реальные результаты. Всем известен динамовский слоган: «Сила в движении». И мы действительно видим, что в движении, или в более общем и емком его выражении – в изменчивости, сокрыта энергия как рабочий ресурс сотворения вполне осязаемого продукта, даже если эта изменчивость ничтожна по «среде» своего происхождения.
На этот творческий ресурс пустоты косвенным образом указывает и сама наука, определяющая свет как распространение электромагнитной волны, совершающей колебания в вакууме (!), уходя при этом от четкой дефиниции самой волнующейся среды, в которой этот свет колеблется. Однако нам известно, что энергия звука передается посредством колебаний воздуха, а морской волны – посредством ее колебаний в воде. Выходит, энергия света распространяется за счет колебания «ничто»?
«Дайте мне материю и движение, и я создам мир», – восклицает Рене Декарт [17]. У нас запросы скромнее. Для создания мира нам достаточно только изменчивости как разновидности покоя пустоты.
* * *Гегель совершенно справедливо называет противоречие «корнем всякого движения» и основой развития [18], однако полагает его зарождение в сфере идеального (в нашем понимании – на высших этажах материи), тем самым обращая это противоречие во всех смыслах в надуманное. Маркс экстраполирует это противоречие на всю сферу «объективной реальности», представляя его имманентно присущим любым материальным объектам и тем самым лишая диалектику природы своих эволюционных корней. Между тем, для обнаружения действительного источника движения следует спуститься по лифту здания бытия к фундаменту его истоков – к пустому субстрату. Именно там и зарождается, а точнее – извечно существует то самое реальное противоречие, которое выступает основой мирового развития. Причиной его формирования является коллизия организующего и дезорганизующего начал пустоты, единство и противоборство которых предопределяет биполяризацию всего мироустройства. Первое начало заключает в себе устои стабильности и консервативности, второе – потенциал изменчивости и развития.
Только в небытийной первооснове мира покой и движение находятся между собой одновременно в отношениях тождества и противоречия, являющегося, согласно закону единства и борьбы противоположностей (ЗЕБП), источником и причиной всякого развития. Их тождество предопределяется единством их формы как качества пустоты, а противоречие – противоборством их содержания, выраженном в совокупном покое через множество противостояний разнонаправленной (биполяризованной) динамики в условиях внутрипустотного хаоса изменчивости. При этом изменчивость пустоты в своей совокупности ничего не меняет, а постоянство пустоты не ограничивает ее ни в каких изменениях.
Неизменчивость пустоты, обеспеченная ее совокупной изменчивостью, выступает основой ее устойчивости, антисимметрии и гармонии, а несбалансированная частная изменчивость проявляется в формировании локальных возмущенностей, нарушающих идиллию стабильности. В последних инициируются материализационные процессы с образованием энергоемких форм (материи), необходимых для восстановления антисимметрии небытийной первоосновы, а попросту – для «рассасывания» флуктуаций и возвращения пустотной системы к исходному равновесному состоянию. Таким образом, бытие выступает в качестве некоего абсорбента избыточной возмущенности пустоты.
Рассмотренная биполяризация небытийного субстрата на его статическую и динамическую составляющие непосредственным образом вплетена в одно из основных положений китайской классической «Книги Перемен» («И-Цзин»): «Мир представляет собой изменчивость и неизменчивость, и даже более того, мир – это непосредственное единство этих его характеристик» [19]. Да и в целом в китайской традиции признается правомерным наделять первоматерию Ци свойством одновременного покоя и движения, а ее первосостояние определять понятием «Великая пустота».
Схожая идея тождества и противоречия контрарных (противоположных) сторон пустого субстрата нашла отражение и в представлениях античных философов в виде «бесплодной» пустоты, лишенной возможности мирообразования (укон), и «беременной» пустоты, наделенной потенциалом рождения бытия (меон). В нашем переложении они вполне четко предстают в качестве статичной и динамичной сторон исходной внутрипустотной биполяризации.