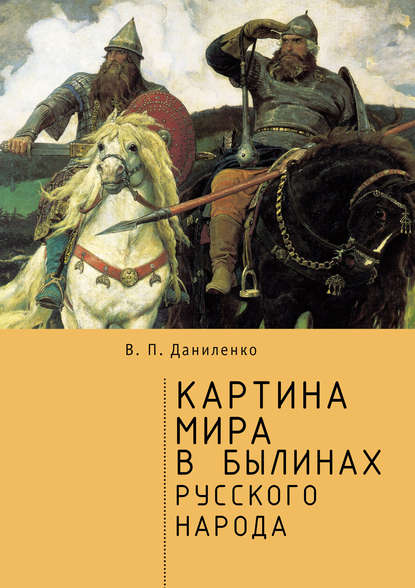Дело подземного города

Москва, 1983 год. Город живет своей размеренной жизнью, не подозревая о ледяном ужасе, что затаился в его бетонном подбрюшье. Когда в служебном тоннеле метрополитена находят тело, не поддающееся стандартной классификации, за расследование берется майор МУРа Олег Коршунов — человек, для которого не существует неразрешимых загадок. Однако это дело с самого начала ломает все привычные лекала. Привлеченная к делу молодой антрополог Анна Власова обнаруживает в останках следы чудовищных экспериментов, намекающих на реальность, которую официальная наука отказывается признавать. Каждый шаг вглубь лабиринтов метро уводит Коршунова и Власову все дальше от привычного мира, в секретный советский проект «Ковчег», где человеческая жизнь была лишь расходным материалом в погоне за призрачным будущим. В этом подземном городе, где не действуют законы поверхности, им предстоит столкнуться не просто с убийцей, а с наследием безумной идеи, которое все еще живо и смертельно опасно.