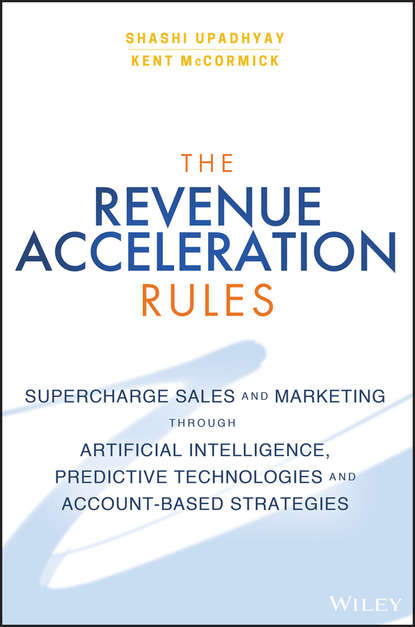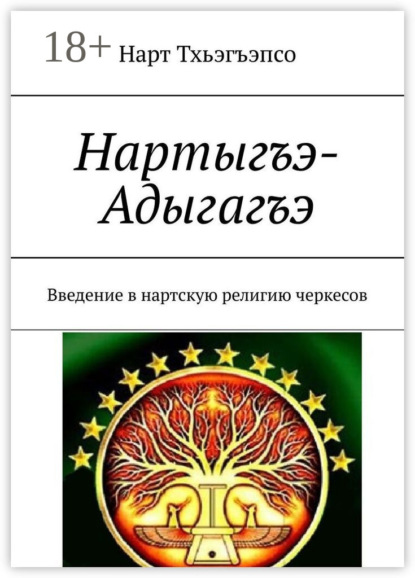Кооператив «Пегас»

- -
- 100%
- +
Дым от дешевых сигарет повис в неподвижном воздухе. Никто не ответил. Они смотрели сквозь него, мимо него, на серую стену пакгауза за его спиной. Их молчание было тяжелым, физически ощутимым.
– «Чайка». Вчера вечером или ночью отчаливал. Может, видел кто, что на борт грузили? Кроме тряпок.
Один из докеров, пожилой, с лицом, изрезанным морщинами, как карта старых морских путей, медленно сплюнул на бетонный пол. Коричневый плевок был красноречивее любых слов.
– Мы железо тягаем, начальник, – прохрипел он, не глядя на Сурова. – А что там в эти скорлупки пихают – не нашего ума дело. Спроси у тех, кто на легком грузе.
«Легкий груз». Кодовое слово для всего, что не проходило по официальным накладным. Суров кивнул, понимая, что стена возведена. Они не скажут ничего. Не потому что не знают. Потому что боятся. Страх стоял в их глазах невидимым часовым.
Он пошел дальше, вглубь этого железного лабиринта. Он поговорил с крановщиком, высохшим стариком в кабине высоко над землей, который через треск рации уверял, что «ничего не видел, спал в ту ночь, смена не его была». Поговорил с таможенником, молодым лейтенантом с бегающими глазками, который при виде удостоверения побледнел и начал лепетать о строгом соблюдении инструкций. Каждый разговор был как удар о ватную стену. Информация вязла, тонула в общем, липком страхе. Кто-то прошел здесь до него. Не с удостоверением, а с чем-то более весомым. И этот кто-то приказал молчать. И приказ этот выполнялся беспрекословно.
Атмосфера давила. Суров чувствовал, как его собственная паранойя, верный спутник с чеченских времен, начинает поднимать голову. Ему казалось, что за ним следят из-за каждого угла, из темных проемов между контейнерами, из застекленных будок диспетчеров. Каждый резкий звук – лязг сцепки, крик чайки, далекий гудок парохода – заставлял мышцы напрягаться в ожидании удара. Он заставил себя дышать глубже. Это не война. Это работа. Но разница становилась все более призрачной.
Он искал Филина. Семена Глушко, бывшего портового диспетчера, списанного на берег за беспробудное пьянство, но не растерявшего ни феноменальной памяти, ни связей. Филин был портовым дном. Он знал все подводные течения, все тайные фарватеры, все рифы, о которые разбивались чужие судьбы. Но найти его было непросто. Филин не сидел на месте, он курсировал между точками, где ему могли налить.
Суров нашел его в «Якоре». Так называлась убогая «стекляшка» у самого дальнего причала, где пахло прокисшим пивом, дешевой водкой и отчаянием. Внутри, в сизом табачном дыму, за липкими пластиковыми столами сидели те, кого море выбросило на берег навсегда. Сломанные, потерянные люди с мутными глазами. Филин сидел в самом темном углу, сгорбившись над граненым стаканом. Его мятый пиджак, казалось, врос в его сутулые плечи, а седая щетина на впалых щеках придавала ему вид безумного пророка.
Суров молча сел напротив, поставил на стол бутылку «Столичной», которую купил в ларьке у входа. Филин поднял голову. Его глаза были единственным, что осталось живым на этом лице. Красные, воспаленные, но ясные и цепкие. Он посмотрел на Сурова, потом на бутылку, и в его взгляде промелькнуло что-то похожее на уважение.
– Майор, – просипел он. Его голос был похож на скрип ржавых петель. – Какими судьбами? Давно тебя не видно было. Думал, уехал в свою Москву, к большим звездам.
– Работа держит, Семен, – тихо ответил Суров. Он открутил крышку и налил Филину полный стакан. Себе – плеснул на донышко.
Филин выпил залпом, не закусывая. Крякнул, и по его лицу пробежала волна жизни, словно старый, заглохший мотор чихнул и завелся.
– Хорошая работа, – сказал он, глядя на бутылку. – Дорогая. Значит, дело серьезное.
– «Пегас», – сказал Суров одно слово.
Филин замер. Его рука, тянувшаяся к бутылке, остановилась на полпути. Он медленно поднял глаза на Сурова. В их глубине больше не было пьяной расслабленности. Там был холод. И знание.
– А, – протянул он. – Птичка долеталась. Я слышал. Весь порт гудит, как растревоженный улей. Только тихо гудит. Про себя.
– Что гудят?
Филин усмехнулся, обнажив редкие желтые зубы.
– Гудят, что кто-то очень большой и злой наступил на этот улей. И теперь пчелы боятся вылетать. Ты, майор, зря тут ходишь, вопросы задаешь. Могут и тебя ужалить. Не посмотрят на корочку.
– Мне нужны факты, Филин, а не метафоры.
– Факты? – Филин снова налил себе, на этот раз медленнее, задумчивее. – Факт первый: Вольский – идиот. Жадный, трусливый идиот, который возомнил себя Ротшильдом. Он думал, что сможет сидеть на двух стульях, а стулья взяли и разъехались. Вместе с его задницей.
– Что за стулья?
– Ох, майор… Ты умный мужик, но ты не здешний. Ты войну видел, а это другое. Там враг, вот он, перед тобой. А здесь… Здесь враг тебе улыбается, руку жмет, а за спиной уже нож точит. Порт всегда был под «старыми». Они тут десятилетиями сидели. Все потоки, все каналы – их. Тихо, без шума. По понятиям. Золотишко, иконы, девочки… Классика. А «Пегас» был их лучшей лошадкой. Вольский платил долю и горя не знал.
Он замолчал, вглядываясь в мутное содержимое своего стакана.
– А потом пришли другие.
– Кто? – спросил Суров, чувствуя, как внутри все холодеет от напряжения.
– Не знаю. Никто не знает их имен. Их не видят. Видят только их дела. Они не по понятиям работают. Они работают по уставу. Жестко, быстро, без разговоров. Как вы, вояки. Пришли, зачистили, ушли. Ни следов, ни свидетелей. Они не договариваются. Они просто берут то, что им нужно. А если кто мешает – убирают. Как мусор. И все эти наши местные «авторитеты», вся эта блатная романтика – они против них как дети с деревянными сабельками.
Филин снова выпил. Его взгляд стал тяжелым.
– Вольский, придурок, решил, что он самый хитрый. «Старые» хотели через него камушки переправить. Большую партию. А «новые» сказали: «Теперь канал наш. И повезешь ты не камушки, а железо. Туда, где стреляют». И заплатили больше. Намного больше. А Вольский взял деньги и у тех, и у других. Решил, что проскочит.
Суров сложил картину воедино. Алмазы, о которых шептались в порту. И оружие. Две могущественные силы, столкнувшиеся на одном маленьком, ржавом катере.
– Четыре трупа на «Чайке»… это чья работа?
– А ты сам как думаешь, майор? – Филин посмотрел ему прямо в глаза. – Кто так работает? Четко, без эмоций. Два в корпус, один в голову. Это почерк. Не бандитский. Это почерк тех, кто убивать учился не в подворотне, а на полигоне. «Новые». Они просто забрали свое. И убрали экипаж, который видел их в лицо. И груз, который Вольский для «старых» приготовил, тоже прихватили. В качестве бонуса. Чтобы показать, кто теперь в доме хозяин.
Тишина в углу забегаловки сгустилась. Густой табачный дым, казалось, впитывал в себя каждое слово, делая его весомым и опасным. Суров понял, что Филин рискует. Рассказывая это, он подписывал себе приговор.
– Почему ты мне это говоришь?
– Потому что ты, майор, единственный, кто не на зарплате ни у тех, ни у других, – голос Филина стал тише, почти шепотом. – И потому что мне этих парней с «Чайки» жалко. Потапова я знал. Нормальный мужик был. Просто хотел семью прокормить. А попал в жернова. И еще… – он замялся, отвел взгляд. – Мне надоело бояться. Я всю жизнь на этом причале. Раньше воров боялись. А теперь боишься тени собственной. Это не жизнь. Это беспредел.
Суров молча налил ему еще. Он понимал, что эта откровенность стоила Филину дорого. Она была оплачена годами унижений, страха и литрами дешевой водки, которая и сожгла в нем все, кроме остатков человеческого достоинства.
– Что-то еще? Любая мелочь, Филин. Что-то необычное перед последним рейсом «Чайки».
Информатор надолго задумался, его лоб прорезала глубокая морщина.
– Было одно… странно. За день до отплытия механик их, Гришин, который… ну, которого тоже… он бегал по порту как ошпаренный. Искал одного человека. Старого контрабандиста, ювелира-оценщика. Митрича. Говорят, показывал ему что-то. А Митрич после этого разговора собрал манатки и исчез. Испарился. Словно его и не было.
– Где найти этого Митрича?
– Нигде, – Филин покачал головой. – Если Митрич решил исчезнуть, его даже черт в аду не найдет. Но сам факт… Зачем механику оценщик? Может, Вольский решил не просто деньги с двух сторон взять, а еще и груз «старых» подменить? Всучить им стекляшки вместо брюликов? Если так, то он не просто идиот. Он смертник.
Суров встал. Информации было достаточно. Даже слишком. Он больше не расследовал четыре убийства. Он стоял на краю пропасти, в которую летел весь привычный криминальный мир этого города. И на дне этой пропасти его ждали не воры в законе, а что-то новое, безликое и куда более страшное.
– Береги себя, Семен, – сказал он тихо.
– Поздно, майор, – усмехнулся Филин безрадостно, поднимая стакан. – За мое здоровье уже не пьют. А ты… ты тоже берегись. Эти «новые»… они как война. Приходят, все сжигают и уходят. А после них – только пепел и тишина.
Суров оставил на столе недопитую бутылку и вышел из «Якоря». Сырой, промозглый ветер ударил в лицо, но не смог прогнать внутренний холод. Слова Филина о войне зацепили его, всколыхнули что-то на самом дне памяти.
«Они как война».
Он шел по причалу, и мир вокруг снова начал меняться. Высокие краны казались ему гигантскими виселицами. Глухие удары волн о бетон звучали как далекие разрывы. А крики чаек сливались в один протяжный, плачущий вопль.
Страх, который он видел сегодня в глазах докеров, таможенников и в глазах Филина, теперь обрел форму. Это был не просто страх перед бандитами. Это был первобытный ужас перед безжалостной, нечеловеческой силой, которая пришла, чтобы установить здесь свой порядок. Порядок кладбища.
Он остановился у края причала, глядя на свинцовую, неспокойную воду. Там, в глубине, лежали ответы. Но чтобы достать их, ему придется нырнуть в эту ледяную тьму. И он не был уверен, что сможет вынырнуть обратно. Потому что война, однажды начавшись, никогда не заканчивается. Она просто меняет поле боя. И теперь полем боя стал этот город. А он снова был на нем солдатом. Только на этот раз линия фронта проходила не по ущелью, а прямо через его собственное сердце.
Первая нить, оборванная пулей
Пепел и тишина. Слова Филина прилипли к нёбу, оставив горький привкус, который не мог смыть ни холодный ветер, ни третья подряд сигарета. Суров вел «шестерку» прочь от порта, не глядя в зеркало заднего вида. Он знал, что там нет погони. Те, о ком говорил старый информатор, не гонялись. Они ждали. Они были повсюду и нигде, как радиация после взрыва. Невидимые, но смертоносные.
Он не поехал в прокуратуру. Бумажная работа могла подождать. Мертвое дело, похороненное под ворохом отчетов и протоколов, никуда не денется. А вот живые нити, даже самые тонкие, имели свойство рваться. Информация Филина о механике Гришине, который искал оценщика, была ценной. Но Гришин лежал в морге с двумя пулями в теле. Он уже ничего не расскажет. Однако в списке сотрудников «Пегаса», который Суров вытряс из Вольского, значился еще один механик. Сменщик. Павел Шлыков. Человек, который последним осматривал двигатель «Чайки» перед ее выходом в рейс.
Адрес Шлыкова привел Сурова на самую окраину города, в район, который не попал в рекламные буклеты для туристов и инвесторов. Здесь заканчивался асфальт и начиналось серое, безликое месиво из самостроя, обшарпанных двухэтажных бараков и ржавеющих гаражных кооперативов. Район был похож на шрам, который город тщетно пытался спрятать под своим праздничным южным фасадом. Воздух пах угольным дымом, сыростью и безнадежностью. Здесь жили те, кто проиграл. Те, для кого «безграничные возможности» новой эпохи означали лишь возможность глубже увязнуть в старой нищете.
Квартира Шлыкова находилась в приземистом бараке с длинным, темным коридором, общим на восемь семей. Дверь, обитая выцветшим клеенчатым материалом, была не заперта. Суров постучал костяшкой пальца, и она со скрипом приоткрылась. Изнутри пахнуло жареным луком, детскими пеленками и страхом. Этот последний запах Суров научился различать безошибочно. Он был тонким, кисловатым, как запах пота человека, который знает, что за ним пришли.
В крохотной, заставленной убогой мебелью комнате на диване сидела бледная, изможденная женщина с младенцем на руках. В углу, у окна, стоял мужчина. Невысокий, сутулый, в растянутом свитере и выцветших трениках. Павел Шлыков. Его лицо было серым, как здешнее небо. Руки с грязными, въевшимися в кожу мазутом ногтями, безвольно висели вдоль тела. Он смотрел на Сурова так, как смотрит кролик на удава. Не отрываясь. С полным осознанием своей обреченности.
– Шлыков? – голос Сурова в тесном пространстве прозвучал слишком громко, как выстрел.
Мужчина едва заметно кивнул. Его кадык дернулся.
– Прокуратура, – Суров не стал доставать удостоверение. Здесь, в этом мире, красная корочка не имела веса. Здесь верили только силе и угрозе, которые исходили от человека. А от Сурова они исходили волнами. – Нужно поговорить. О «Чайке».
Жена Шлыкова тихо всхлипнула, крепче прижимая к себе ребенка. Шлыков бросил на нее затравленный взгляд и шагнул к Сурову.
– Не здесь, – просипел он. – Пойдем… на улицу.
Они вышли в гулкий, пахнущий плесенью коридор. Шлыков прикрыл за собой дверь, словно пытаясь отгородить свою семью от той заразы, что принес с собой следователь.
– Я ничего не знаю, гражданин начальник, – забормотал он, не поднимая глаз. – Я сменщик. Мое дело – мотор проверить, масло, фильтры. Проверил, расписался в журнале и ушел. Что они там грузили, куда плыли… я не при делах.
– Гришина знал? – спросил Суров в упор.
Шлыков вздрогнул, как от удара.
– Знал… работали вместе. Хороший мужик был…
– Он что-то говорил тебе перед рейсом? Может, был чем-то обеспокоен? Нервничал?
Механик судорожно сглотнул. Он начал тереть ладонью о ладонь, словно пытаясь согреться или стереть с них невидимую грязь.
– Все нервничали… Рейс такой… – он осекся, поняв, что сказал лишнее.
– Какой «такой» рейс, Шлыков? – Суров шагнул ближе, отрезая механику путь к отступлению. – Что в нем было особенного?
– Да ничего! Обычный… – он уперся взглядом в грязный пол. Его молчание было криком.
Суров вздохнул. Давить здесь, в этом коридоре, где из-за каждой двери могли слушать любопытные уши, было бессмысленно. И опасно для самого Шлыкова.
– Послушай меня, Павел, – Суров сменил тон, сделав его тише, почти доверительным. – Четырех твоих коллег убили. Просто стерли. Твой напарник Гришин – в их числе. Ты думаешь, те, кто это сделал, оставят в живых человека, который последним был у катера? Который мог что-то видеть? Слышать? Ты для них – нить. А такие нити обрывают. Ты сейчас – ходячий покойник. И единственный твой шанс – это я.
Шлыков поднял на него глаза. В них плескался ужас. Не страх перед следователем. А животный, всепоглощающий ужас перед чем-то другим. Он верил. Каждому слову.
– Я… – он облизнул потрескавшиеся губы. – Я не могу… У меня жена, ребенок… Они убьют…
– Они и так убьют, – отрезал Суров. – Вопрос времени. Сегодня, завтра. Они просто ждут, когда я от тебя уеду. А если заговоришь, у тебя появится шанс. Я могу тебя спрятать. Тебя, жену, ребенка. Программа защиты свидетелей. Это не сказки, это работает. Но для этого ты должен мне все рассказать.
Ложь. Наполовину. Никакой реальной программы в 96-м году не было. Были конспиративные квартиры, липовые документы и призрачная надежда, что о тебе забудут. Но для такого, как Шлыков, эта ложь была спасательным кругом.
Механик колебался. На его лице шла борьба. Страх перед неизвестными убийцами боролся со страхом за семью.
– Я… я видел, – наконец выдавил он из себя шепотом. – Ночью. Перед самым отплытием. Я в гараже своем ковырялся, возвращался поздно. Через порт срезал путь. Видел, как к «Чайке» подъехала машина. Не наша, не портовая. «Вольво». Темная. И люди… не наши. Не блатные. Другие. В одинаковой одежде, темной. Двигались… тихо, быстро. Как солдаты. Они грузили ящики. Небольшие, тяжелые. Не тряпки это были, точно. Я спрятался за контейнерами.
Вот оно. Первое прямое свидетельство. Подтверждение слов Филина. «Новые».
– Ты узнал кого-нибудь? Номер машины запомнил?
Шлыков отрицательно помотал головой.
– Темно было. Да и не до того… я чуть не помер со страху. Уполз оттуда, как крыса. А утром узнал про Гришина и остальных… Понял, что если бы они меня тогда заметили…
– Что еще? Гришин искал оценщика. Ты знаешь, зачем?
Лицо Шлыкова исказилось. Теперь он боялся еще больше.
– Не знаю! Ничего не знаю! – он почти закричал шепотом. – Он просто спросил, где Митрича найти. Сказал, есть одно дельце… У него в руках был сверток маленький, из бархата. Как для побрякушек… Больше ничего не знаю!
– Хорошо, – Суров понял, что выжал из него максимум на сейчас. – Этого для начала хватит. Нам надо встретиться. Не здесь. Где-нибудь, где ты будешь чувствовать себя в безопасности. Где мы сможем спокойно, подробно все записать.
Шлыков лихорадочно соображал.
– Гараж, – сказал он. – Мой гараж. В кооперативе «Маяк». Ряд седьмой, номер сорок два. Там яма есть, подвал. Никто не найдет. Там и поговорим. Сегодня. Как стемнеет. Часов в восемь.
– Один придешь?
– Один, – кивнул Шлыков. – Клянусь.
– Договорились, – сказал Суров и, не прощаясь, пошел по коридору к выходу.
Он уже был на улице, вдыхал сырой, холодный воздух, когда Шлыков догнал его.
– Начальник…
Суров обернулся.
– Вы ведь… не обманете? Про защиту?
В его глазах была последняя, отчаянная надежда. Надежда маленького человека, случайно попавшего под колеса большой и страшной истории.
– Не обману, – сказал Суров. И в тот момент он действительно в это верил. Он сделает все, чтобы этот перепуганный мужик остался жив. Теперь это было делом чести.
Вечер опускался на город медленно, нехотя, словно грязное, мокрое одеяло. Суров приехал к гаражному кооперативу «Маяк» за час до назначенного времени. Он оставил машину за несколько кварталов и подошел пешком, двигаясь в тени заборов и редких, чахлых деревьев. «Маяк» был огромным, ржавым организмом, раскинувшимся на пустыре между железной дорогой и промзоной. Сотни одинаковых металлических боксов, выстроенных в унылые, бесконечные ряды. Ветер гулял в узких проездах, раскачивая одинокие лампочки и швыряя под ноги мусор. Место было идеальным. Для засады.
Он не пошел к седьмому ряду. Он занял позицию на крыше заброшенного склада напротив, откуда просматривался почти весь кооператив. Это была привычка, въевшаяся в кровь. Никогда не идти на встречу в лоб. Всегда проверять местность. Всегда искать пути отхода. Он достал старый армейский бинокль и стал ждать.
Время тянулось, как густой мазут. Сумерки сгущались, стирая очертания, превращая мир в театр теней. Вспыхивали и гасли огоньки сигарет у ворот, где-то вдалеке лаяла собака, с железной дороги доносился тоскливый перестук колес. Каждый звук, каждое движение в этом застывшем мире были для Сурова преувеличенно громкими, значимыми. Он был не следователем, ожидающим свидетеля. Он был снайпером в «лежке». И его тело помнило это состояние лучше, чем разум. Дыхание стало ровным, почти неслышным. Сердце замедлило свой бег. Все его существо превратилось в один напряженный нерв, в инструмент для наблюдения и ожидания.
Восемь часов. Никого.
Пять минут девятого. Пусто. Проезды между гаражами были безлюдны.
Суров почувствовал, как под кожей начинает шевелиться холод. Нехороший, знакомый холод. Так бывает перед боем. Когда тишина становится громче любого крика. Шлыков был слишком напуган, чтобы опоздать. Он должен был прибежать сюда за полчаса, дрожа от страха и нетерпения. Его отсутствие означало только одно.
Он спустился с крыши, двигаясь бесшумно, как тень. Пистолет в руке казался естественным продолжением ладони. Он не пошел по центральному проезду. Он двигался вдоль задних стенок гаражей, перепрыгивая через кучи строительного мусора и замерзшие лужи. Воздух стал плотнее, он пах ржавчиной, гнилью и тревогой.
Седьмой ряд. Он нашел его по тускло выведенной краской цифре на угловом боксе. Дальше – по номерам. Тридцать восемь, сорок… Сорок второй. Ворота были чуть-чуть приоткрыты. Узкая черная щель, из которой несло холодом и чем-то еще. Чем-то сладковатым, металлическим.
Запах.
Он снова ударил по нему, как тогда, на катере. Но на этот раз Суров был готов. Он не дал воспоминаниям вырваться наружу. Он загнал их вглубь, запечатал ледяной яростью.
Он толкнул створку ворот. Она поддалась с протяжным, мучительным скрипом, который показался ему оглушительным в мертвой тишине. Внутри было почти темно. Лишь узкая полоска света от далекого фонаря падала на бетонный пол. Суров замер у входа, давая глазам привыкнуть. Старый «Москвич» под брезентом. Верстак, заваленный инструментами. И запах. Он стал сильнее.
Шлыков лежал на полу, возле смотровой ямы. На спине. Руки раскинуты, глаза открыты и удивленно смотрят в прогнившие доски потолка. Он был одет в тот же растянутый свитер. Только теперь на груди, чуть левее сердца, расплывалось темное, влажное пятно. Никакой крови вокруг. Никакой борьбы. Один точный выстрел. Работа профессионала.
Суров медленно вошел внутрь. Он не смотрел на лицо мертвеца. Он смотрел по сторонам. Искал. И нашел.
На верстаке, среди гаечных ключей и замасленных тряпок, лежал маленький, блестящий предмет. Он был аккуратно поставлен на торец, так, чтобы его невозможно было не заметить. Латунная гильза. От патрона 7,62 мм, СП-4. Бесшумный, специальный. Такие использовали не бандиты. Такие использовали спецы. Гильза была теплой на ощупь. Убийца ушел совсем недавно. Он ждал. Возможно, он видел, как Суров сидит на крыше. Возможно, он намеренно дал ему время, чтобы тот нашел тело.
Это было послание.
Холодное, циничное и предельно ясное. Они не просто убрали свидетеля. Они разговаривали с ним, с Суровым. Они знали, кто он. Они знали, что он найдет эту гильзу и поймет, что она означает. На «Чайке» они не оставили ничего. Здесь – оставили. Специально. Это был не промах. Это был жест. Росчерк пера под смертным приговором. Они говорили: «Мы здесь. Мы видим тебя. Ты следующий в списке. И мы придем за тобой, когда захотим».
Суров выпрямился. Холод внутри него превратился в сталь. Ярость, которую он так долго сдерживал, начала кристаллизоваться, превращаясь в нечто иное. В холодную, расчетливую решимость. Он посмотрел на мертвого Шлыкова. На его открытые, ничего не понимающие глаза. Он обещал этому человеку защиту. И не сдержал слова. Он привел смерть в его дом, в его убогий, жалкий мир. Чувство вины было острым, как осколок стекла в горле.
Он вышел из гаража, не оглядываясь. Он не будет вызывать милицию. Не сейчас. Это ничего не даст. Они приедут, потопчутся, составят протокол и повесят еще один «глухарь». Это дело перестало быть просто расследованием. Оно стало войной. Его личной войной. И Филин был прав. Эти люди были как война. Они несли с собой только пепел и тишину.
Но Суров тоже был порождением войны. И он умел воевать. Он не знал их имен, не видел их лиц. Но теперь у него было кое-что получше. У него был их почерк. Их запах. И их вызов, брошенный ему в лицо в виде маленького кусочка латуни.
И он этот вызов принял.
Шагая по темным, гулким проездам ржавого кооператива, он чувствовал не страх. Он чувствовал, как внутри него просыпается тот, другой Суров. Тот, которого он много лет пытался похоронить под формой следователя и статьями уголовного кодекса. Офицер спецназа. Тот, кто умел не только ждать, но и охотиться. И теперь охота началась.
Призрак с греческим профилем
Латунная гильза в кармане плаща была тяжелее своего веса. Она не грела, а наоборот, вытягивала тепло, маленький ледяной якорь, тянущий Сурова на дно. Он вел машину не глядя на дорогу, подчиняясь мышечной памяти, пока в голове, в выжженной пустоте, оставшейся после находки в гараже, медленно прорастали ядовитые семена холодной, кристаллической ярости. Они не просто убили Шлыкова. Они оставили визитную карточку. Небрежно, как счет в ресторане. Этот маленький кусочек металла был не уликой. Он был насмешкой, плевком в лицо. Демонстрацией полного, абсолютного превосходства. Они не прятались. Они играли. И он, майор Суров, был в этой игре не охотником, а дичью, которую подгоняют флажками.
Он не поехал в прокуратуру. Что он скажет? Что нашел труп свидетеля, которого сам же и нашел, и спугнул? Что убийцы оставили ему сувенир – гильзу от спецпатрона, который не числится ни на одном складе МВД? Его либо примут за сумасшедшего, либо отстранят от дела, которое и так уже трещало по швам под давлением сверху. Начальство хотело тишины, а он принес им еще один труп и призрак спецслужб. Нет, путь в казенный дом был заказан. Стена недоверия, которую он всегда ощущал вокруг себя, теперь стала бетонной. Он был один. Как в том ущелье. Только враг был не за скалой, а растворен в самом воздухе этого города.