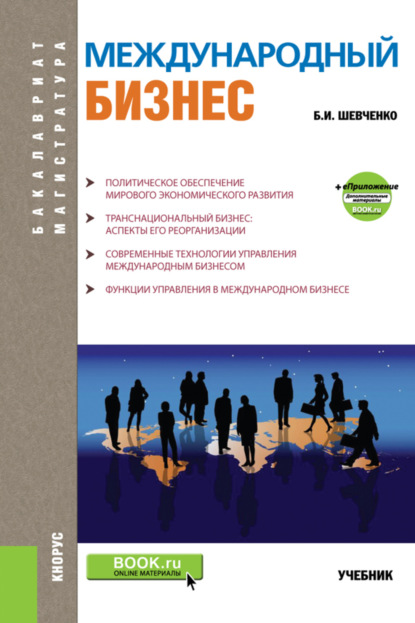Красная роза в черном вазоне

- -
- 100%
- +
Дюбуа промолчал. Он развернулся и вышел из кабинета, не дожидаясь ответа. Унижение жгло где-то под ребрами, но его перекрывала холодная, ясная злость. Лефевр и ему подобные не понимали. Они пытались запереть океан в наперстке. Они видели отдельные преступления, а не цельную, чудовищную картину.
Он вернулся в свой кабинет и запер дверь. Готье тактично не стал его беспокоить. Дюбуа подошел к большому окну, выходившему на Сену. Сумерки опускались на город. Вода в реке казалась черной и густой, как застывшая смола. Огни на мостах и проплывающих бато-мушах зажигались один за другим, но они не разгоняли мрак. Они лишь подчеркивали его глубину.
Париж. Город-праздник. Город-призрак. Теперь он стал еще и сценой для чьего-то безумного театра. Дюбуа достал из ящика стола карту города и расстелил ее на столе. Взял два красных канцелярских флажка. Один он воткнул в респектабельный шестнадцатый округ, в точку, обозначавшую авеню Фош. Второй – в самое сердце старого города, в пятый округ. Между ними лежали километры улиц, тысячи жизней, целая социальная пропасть. И ничего, абсолютно ничего, что могло бы их соединить.
Кроме него. Флориста.
Дюбуа смотрел на два красных пятнышка на карте, словно на две капли крови. Он не знал, где убийца нанесет следующий удар. Но он знал, что это произойдет. Флорист только начал. Он собирал свой букет. И каждая новая смерть будет лишь очередным цветком в его гербарии ужаса. И задача Дюбуа была не просто остановить его. Его задача была – понять. Понять логику этого безумия, расшифровать язык его кровавого искусства. Потому что только так можно было предугадать его следующий шаг и сорвать его последний, самый страшный цветок, пока он не распустился. Он зажег сигарету, и в сгущающейся темноте кабинета ее огонек вспыхнул, как третий, крошечный и одинокий красный флажок.
Аромат тени
Утренний свет, процеженный сквозь грязные стекла окна на набережной Орфевр, был цвета застарелого ушиба. Он ложился на стопку рапортов, не делая их менее безжизненными. Дюбуа не спал. Ночь он провел в компании двух красных флажков на карте Парижа, бутылки кальвадоса и призрака по имени Флорист. Призрак оказался молчаливым собеседником, и теперь голова комиссара гудела низким, назойливым звоном, словно телеграфная линия, по которой передавали только одно слово: тупик.
Два мира, две жертвы, два убийства, столь же непохожих друг на друга, как псалом и непристойный шансон. И лишь одна нить, тонкая, как паутина, и алая, как артериальная кровь, связывала их воедино. Роза. Эксперт-ботаник из Jardin des Plantes подтвердил вчера поздно вечером: обе розы были идентичны. Сорт «Baccara», детище дома Мейан, новинка, капризная и баснословно дорогая. Цветок для тех, кто мог позволить себе не смотреть на ценники. Баронесса де Ламбер, безусловно, была из их числа. Но старый букинист, чьи манжеты были стерты до бахромы, а единственным богатством были чужие мысли в кожаных переплетах? Это не сходилось. Убийца принес цветы с собой. Он приходил к своим жертвам с даром, прежде чем отнять у них все.
Дюбуа отодвинул от себя остывшую чашку с кофейной гущей и посмотрел на Готье, который с методичностью отличника раскладывал по стопкам фотографии с мест преступлений.
«Лоран, бросай эти картинки. Они нам ничего нового не скажут. Мне нужен список. Полный список всех, кто торгует в Париже цветами класса люкс. Не уличные торговки с их фиалками, а те, кто поставляет букеты в Елисейский дворец, в особняки на авеню Фош, в ложи «Опера Гарнье». Те, у кого есть доступ к этому сорту, «Baccara».
Готье поднял глаза, в которых на миг промелькнуло облегчение от получения четкой, выполнимой задачи. «Думаете, убийца – один из них? Флорист в прямом смысле слова?»
«Я думаю, что наш убийца – эстет, – медленно произнес Дюбуа, растирая пальцами уставшие виски. – Он одержим деталями. Такая роза – это не случайность. Это выбор. А за каждым выбором стоит человек. Он должен был где-то их купить. Или вырастить. Узнай, где».
Пока Готье, вооружившись телефонным справочником и своим неутомимым усердием, начал обзванивать самые пафосные заведения города, Дюбуа снова погрузился в безмолвный диалог с фотографиями. Вот баронесса, застывшая в изломанной позе на дорогом ковре. Вот букинист, скорчившийся среди рассыпанных страниц. И там, и там – темное пятно цветка на фоне смерти. Словно подпись художника в углу полотна. Но что он рисовал? Какое послание зашифровал в этих жутких натюрмортах? Дюбуа чувствовал, что ответ лежит не в плоскости криминалистики, а где-то в области искусства, философии, в тех туманных сферах человеческого духа, где гениальность граничит с безумием. И это пугало его больше, чем любой бандит с ножом в темной подворотне.
К полудню список Готье был готов. Он состоял всего из четырех названий. Три из них были старыми, респектабельными домами с вековой историей. Четвертое же выделялось. Оно было новым, но за несколько лет успело приобрести почти мистическую репутацию. «Jardin de Moreau». Салон Жан-Пьера Моро на рю дю Фобур Сент-Оноре. Место, о котором говорили шепотом. Говорили, что Моро не просто продает цветы – он их творит. Что он способен вывести новый сорт ради улыбки клиентки или создать букет, который в точности передаст настроение симфонии Дебюсси. Его клиентами была вся элита Парижа – от жен министров до заезжих голливудских звезд.
«Начнем с него», – решил Дюбуа. Было в этом названии, в этой репутации что-то, что резонировало с изощренностью убийцы.
Рю дю Фобур Сент-Оноре дышала деньгами. Воздух здесь был пропитан ароматами дорогой кожи из витрин Hermès, тонкими шлейфами духов от Lanvin и почти неосязаемым запахом власти, исходившим от расположенного неподалеку Елисейского дворца. Салон «Jardin de Moreau» не имел кричащей вывески. Лишь строгие черные буквы из кованого железа над входом из темного, почти черного дерева. Фасад был скрыт за густой завесой плюща, и только два узких, высоких окна, похожих на бойницы готического замка, намекали на то, что находится внутри. Место было похоже скорее на закрытый клуб или частную галерею, чем на цветочный магазин.
Дюбуа толкнул тяжелую дверь. Тихий мелодичный звон колокольчика был единственным звуком, нарушившим почти церковную тишину, царившую внутри. Он шагнул с серой парижской улицы в другой мир. Здесь не было осени. Здесь царило вечное, влажное, благоухающее лето. Воздух был теплым и густым, насыщенным сложным, многослойным ароматом, в котором терпкая нота влажной земли смешивалась со сладким запахом орхидей, пряной гвоздикой и чем-то еще, экзотическим и незнакомым.
Помещение было высоким, с потолком из матового стекла, сквозь которое пробивался рассеянный, мягкий свет, словно в оранжерее. Стены были выкрашены в глубокий, почти черный цвет мха, на фоне которого живые растения выглядели как драгоценности на бархате. Это не был магазин. Это был храм. Храм, посвященный культу эфемерной красоты. Здесь не было привычных ваз с букетами. Цветы росли в массивных керамических горшках, вились по стенам, свисали с потолка причудливыми гирляндами. Каждый цветок, каждая ветка казались частью единой, тщательно продуманной композиции.
Из глубины зала, из-за зарослей гигантских папоротников, к нему вышел мужчина. Он двигался с бесшумной грацией танцора. На вид ему было около пятидесяти, он был одет в безупречно сшитый светлый твидовый пиджак и темные брюки. У него были мягкие, почти отеческие черты лица, добрые, чуть прищуренные глаза и теплая, обезоруживающая улыбка. Но Дюбуа в первую очередь обратил внимание на его руки. Это были руки хирурга или пианиста – с длинными, тонкими, артистичными пальцами. Они были ухоженными, но под ногтями виднелись едва заметные темные полоски въевшейся земли. Руки человека, который говорил с растениями на их языке.
«Добрый день, месье, – его голос был тихим, бархатным, обволакивающим. – Чем могу быть полезен? Ищете что-то особенное?»
«Комиссар Жюльен Дюбуа, уголовная полиция, – представился Дюбуа, показывая удостоверение. – Я бы хотел задать вам несколько вопросов, месье Моро».
Улыбка не сошла с лица флориста. Ни тени удивления или беспокойства. Лишь легкое, вежливое любопытство.
«Разумеется, комиссар. Прошу вас. Можем присесть здесь». Он указал на два плетеных кресла в углу, рядом с небольшим фонтаном, тихо журчавшим в зарослях водяных лилий. «Хотите кофе? Я варю превосходный».
«Нет, спасибо. Это не займет много времени». ДюбуА остался стоять. Он не хотел поддаваться этой убаюкивающей атмосфере. «Меня интересует редкий сорт роз. «Baccara».
Моро слегка склонил голову набок. «Ах, «Baccara». Великолепный выбор. Драматичный, страстный цветок. Настоящая трагедия в бархате. Да, разумеется, он у меня есть. Один из немногих в Париже, кто работает с ним. Этот сорт очень капризен».
«Вы ведете учет продаж?»
«Конечно, – Моро все так же улыбался. – Я знаю каждого своего клиента в лицо. И знаю предпочтения каждого. Для кого вы ищете? Позвольте угадать… Это для женщины с характером. Она не любит полутонов, не так ли? Для нее существует только черное и белое, любовь и ненависть».
Его проницательность была почти сверхъестественной. Он говорил о цветке так, словно описывал человека.
«Меня интересуют все ваши продажи этого сорта за последнюю неделю», – сухо уточнил Дюбуа.
«Это будет несложно, – кивнул Моро. – Этот цветок заказывают нечасто. Он слишком… обязывающий. Один момент».
Он удалился вглубь салона, скрывшись за стеной из орхидей. ДюбуА остался один. Он медленно пошел вдоль стены, рассматривая диковинные растения. Здесь были хищные венерины мухоловки, похожие на раскрытые капканы, черные каллы, чей изгиб напоминал застывшую змею, ядовито-яркие тропические цветы, казавшиеся искусственными. Это был сад красоты, но в ней было что-то тревожное, темное. Красота на грани уродства, жизнь, питающаяся смертью.
И тут он ее увидел.
Она стояла в дальнем, самом темном углу, спиной к нему, и рассматривала какое-то странное растение в высоком черном горшке. Оно было почти лишено листьев, состояло из переплетения колючих, узловатых ветвей, и на самом верху горел один-единственный цветок, похожий на каплю застывшей крови.
Она была высокой и стройной. Темные волосы были собраны в элегантный узел на затылке, открывая длинную, изящную шею. На ней было строгое платье цвета темного вина, которое идеально облегало ее фигуру. Она не двигалась, полностью поглощенная созерцанием цветка. В ее неподвижности была какая-то напряженная грация, словно у пантеры перед прыжком.
Дюбуа сделал несколько шагов в ее сторону. Он не знал, почему, но почувствовал неодолимое желание увидеть ее лицо. Словно она была ключом к той атмосфере тревоги, что витала в этом месте.
Она, должно быть, услышала его шаги. Она медленно обернулась.
Их взгляды встретились. И на несколько секунд Дюбуа забыл, где он находится и зачем пришел.
У нее были огромные, чуть раскосые глаза цвета горького шоколада. Взгляд был прямым, умным, немного насмешливым и абсолютно лишенным кокетства. Точеные, аристократичные черты лица, высокий лоб, четко очерченные скулы и рот, который, казалось, был создан для ироничных улыбок. Ей было около тридцати пяти, и ее красота была не из тех, что бросаются в глаза, а из тех, что медленно затягивают, как омут. В ней чувствовались порода, интеллект и какая-то глубоко запрятанная печаль.
Она не отвела взгляд, выдерживая его scrutiny с холодным спокойствием.
«Полиция теперь интересуется ботаникой, комиссар?» – ее голос был низким, с легкой хрипотцой, которая делала его еще более притягательным. Она видела его удостоверение в руке.
«Только когда ботаника становится частью моей работы, мадам», – ответил он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. Он подошел ближе. «Что это за цветок?»
Она перевела взгляд на растение. «Это японская айва. Chaenomeles. Некоторые считают ее уродливой. Но посмотрите, как эти колючие, изломанные ветви подчеркивают хрупкость и совершенство единственного цветка. Это драма. Конфликт формы и содержания. Не находите?»
Она говорила об искусстве, но Дюбуа слышал в ее словах нечто большее. Он почувствовал, как между ними возникло напряжение – не враждебное, но и не дружелюбное. Это было поле взаимного изучения, поединок двух умов, которые пытались прочесть друг друга.
В этот момент вернулся Моро с толстой бухгалтерской книгой в руках. Он остановился, увидев их вместе, и его теплая улыбка стала еще шире.
«А, я вижу, вы уже познакомились. Комиссар Дюбуа, позвольте представить вам мадемуазель Элизу Рено. Мадемуазель Рено – владелица галереи авангардного искусства на рю де Сен, одна из самых тонких ценительниц красоты в Париже. И моя постоянная клиентка».
Элиза Рено. Галерея. Искусство. Детали складывались в тревожную мозаику.
«Мадемуазель Рено, – Дюбуа слегка кивнул. – Простите, если прервал ваше… созерцание».
«Вовсе нет, комиссар, – она чуть улыбнулась уголками губ, но ее глаза оставались серьезными. – Я как раз уходила. Месье Моро, пришлите мне эту айву сегодня вечером. Она идеально впишется в мой холл».
«Как всегда, безупречный вкус, Элиза, – Моро склонил голову. – Будет сделано».
Она взяла свою сумочку и перчатки с маленького столика. Проходя мимо Дюбуа, она на мгновение задержалась. Ее взгляд скользнул по его лицу, усталому, небритому, по его поношенному тренчу. В ее глазах он прочел не презрение, а скорее… узнавание. Словно она видела не просто полицейского, а человека, знакомого с темными сторонами жизни.
«Баронесса де Ламбер часто покупала здесь цветы, – сказала она тихо, так, чтобы слышал только он. – Она была патронессой моей галереи. Ее смерть – большая потеря для мира искусства. И не только».
С этими словами она развернулась и вышла из салона, оставив за собой тонкий шлейф незнакомых, терпких духов и ощущение недосказанности. Дверной колокольчик звякнул, возвращая Дюбуа в реальность.
Он смотрел ей вслед, чувствуя, как в его расследовании только что появился новый, совершенно непредвиденный персонаж. Женщина, которая знала баронессу. Женщина, которая говорила загадками и смотрела так, словно знала о нем больше, чем он сам.
«Какая женщина, не правда ли? – мягко произнес Моро, подходя к нему с открытой книгой. – Настоящее произведение искусства. Как и те, что она продает».
Дюбуа оторвал взгляд от двери. «Вы сказали, она знала баронессу де Ламбер?»
«О, да. Они были очень близки. Мадемуазель Рено – протеже покойной баронессы. Элен де Ламбер помогла ей открыть галерею, ввела ее в высший свет. Очень трагично».
Дюбуа перевел взгляд на бухгалтерскую книгу. «Так что насчет моих роз?»
«Вот, комиссар, – Моро указал пальцем на строчку. – За последнюю неделю было всего три заказа на «Baccara». Первый – два дня назад, дюжина для приема в посольстве Испании. Второй – вчера, три цветка для декоратора мадам Арпель. И третий… третий был пять дней назад. Один цветок. В простом черном вазоне. Его заказала сама баронесса де Ламбер».
Дюбуа замер. Этого не могло быть.
«Баронесса сама заказала розу, которую нашли рядом с ее телом?»
«Именно так, – Моро с сочувствием посмотрел на него. – Она делала это каждую неделю. В один и тот же день. По вторникам. Она говорила, что это для нее… своего рода ритуал. Память о ком-то. Я не вдавался в подробности. Моя работа – доставлять красоту, а не задавать вопросы».
Новая деталь. Нелепая, абсурдная, она рушила все его построения. Если баронесса сама заказывала цветок, то убийца просто использовал его. Но откуда он мог об этом знать? И почему он повторил этот ритуал со старым букинистом?
«Кто-нибудь еще знал об этой ее привычке?»
Моро пожал плечами. «Я, мой доставщик. Возможно, ее горничная. Круг близких друзей. Например, мадемуазель Рено наверняка знала. Они часто обсуждали подобные… эстетические жесты».
Дюбуа чувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Каждая новая информация не проясняла, а лишь запутывала дело. Он пришел сюда за ниточкой, а получил целый клубок, в центре которого теперь находилась загадочная владелица галереи с глазами цвета горького шоколада.
«Спасибо за информацию, месье Моро. Вы были очень любезны», – сказал Дюбуа, закрывая блокнот.
«Всегда рад помочь правосудию, комиссар, – Моро проводил его до двери. – Если вам понадобится еще что-нибудь… или просто захотите окружить себя красотой, чтобы отдохнуть от уродства вашей работы, – мой сад всегда открыт для вас».
Дюбуа вышел на улицу. Серый свет и шум города обрушились на него, как ушат холодной воды. Он глубоко вдохнул воздух, пропитанный выхлопными газами и запахом жареных каштанов, пытаясь избавиться от приторного, дурманящего аромата оранжереи Моро. Аромата цветов и тени.
Он не нашел здесь убийцу. Но он нашел нечто большее. Он нашел эпицентр мира, в котором вращались его жертвы. Мира, где красота была культом, страсть – ритуалом, а смерть – возможно, лишь очередным «эстетическим жестом». И в самом сердце этого мира стояла женщина, которая знала слишком много и говорила слишком мало. Элиза Рено.
Он поймал себя на мысли, что ему не терпится поговорить с ней снова. И эта мысль, не имевшая никакого отношения к служебному долгу, заставила его насторожиться еще больше. В его работе увлечение свидетелем было опаснее, чем пуля в спину. Оно делало слепым. А сейчас, в этом деле, где все было построено на полутонах и обмане зрения, слепота была равносильна смерти. Он зажег сигарету, и горький дым «Gauloises» показался ему самым честным и чистым запахом за весь этот долгий, странный день.
Шепот в Люксембургском саду
Он позвонил в галерею на следующий день после полудня, когда шум города достигал своего пика, надеясь, что его официальный тон потонет в этой какофонии и прозвучит менее надуманно. Голос Элизы Рено в телефонной трубке был именно таким, каким он его запомнил – низкий, ровный, без тени удивления, словно она ждала этого звонка. Он представился и, не дав ей возможности отказать, сразу изложил свою просьбу, замаскировав ее под служебную необходимость. Он говорил о коллекции баронессы, о необходимости понять ее круг общения, ее вкусы, которые могли пролить свет на мотивы преступления. Это была слабая, почти прозрачная ложь, и он знал, что она видит ее насквозь.
Она молчала несколько секунд, и в этой паузе Дюбуа услышал нерешительность, а шелест уличного движения за окном ее галереи. Затем она сказала: «Я не люблю говорить о смерти в замкнутых пространствах, комиссар. Стены впитывают слова, а потом отдают их по ночам. Встретимся в Люксембургском саду. Через час. У фонтана Медичи». И повесила трубку, не дожидаясь его согласия.
Он стоял с холодной трубкой в руке, чувствуя себя так, словно только что проиграл первый раунд. Она не просто согласилась – она назначила место и время, перехватив инициативу. Она превратила его допрос в свое приглашение.
Люксембургский сад в конце октября был похож на старого аристократа, который с достоинством принимает свою близкую кончину. Платаны роняли широкие, похожие на ладони листья, устилая аллеи шуршащим ковром из золота и меди. Воздух, прохладный и влажный, пах прелой листвой, сырой землей и далеким дымом жареных каштанов. Дюбуа пришел на пятнадцать минут раньше. Ему нужно было это время, чтобы настроиться, чтобы позволить меланхолии этого места проникнуть в него и стать его броней. Он не хотел идти на эту встречу полицейским. Он хотел быть наблюдателем, исповедником, охотником, который умеет ждать.
Он увидел ее издалека. Она стояла у длинного, заросшего мхом бассейна фонтана Медичи, глядя на циклопа Полифема, который из своей ниши вечно взирал на неверную Галатею в объятиях Ациса. Она была в строгом сером пальто с высоким воротником, из-под которого виднелся краешек шелкового шарфа цвета увядшей гортензии. Ветер трепал несколько темных прядей, выбившихся из ее идеальной прически. Она не смотрела по сторонам, не выискивала его взглядом. Она была полностью поглощена созерцанием каменной драмы, застывшей в веках. В ее профиле, четком на фоне потемневшего от влаги камня, была та же отстраненная красота, что и у статуй королев Франции, расставленных по всему саду. Красота, которая не просит восхищения, но требует внимания.
Он подошел бесшумно, по мягкой земле у кромки аллеи. Она обернулась лишь тогда, когда он остановился в двух шагах от нее. В ее шоколадных глазах не было удивления, лишь тень вопроса.
«Вы всегда приходите раньше, комиссар?»
«Только когда не хочу, чтобы меня застали врасплох, мадемуазель Рено».
Уголки ее губ дрогнули в намеке на улыбку. «А вы считаете меня противником?»
«Я считаю вас человеком, который знает больше, чем говорит. В моей работе это почти одно и то же».
Она отвернулась обратно к фонтану. «Трагическая история. Полифем. Он был чудовищем, но умел любить. Его любовь была такой же уродливой и огромной, как он сам. Он не мог предложить ей ничего, кроме своей силы и своей боли. И когда она отвергла его, он убил ее возлюбленного, раздавив его скалой. Он не смог обладать ее любовью, поэтому он увековечил ее страдание. Некоторые произведения искусства рождаются не из света, а из великой тьмы».
Дюбуа почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имевший отношения к осенней сырости. Она говорила о древнем мифе, но ее слова ложились на его мысли о Флористе с пугающей точностью.
«Вы хорошо разбираетесь в мотивах чудовищ, мадемуазель».
«Я разбираюсь в художниках, комиссар. А самый страшный художник – тот, кто использует в качестве холста чужую жизнь. Давайте пройдемся? От долгого стояния на одном месте мысли костенеют».
Она пошла по аллее, и он последовал за ней, идя чуть сбоку. Их шаги гулко отдавались в тишине сада, нарушаемой лишь шелестом листьев и далекими, приглушенными криками детей, запускавших кораблики в центральном бассейне.
«Итак, вы хотели поговорить о коллекции Элен, – начала она, словно речь шла о светской беседе. – Что именно вас интересует? Ее любовь к ранним импрессионистам или ее тайная страсть к фламандским натюрмортам?»
«Меня интересует ее страсть к одному цветку. Розе сорта «Baccara» в черном вазоне, которую она заказывала каждый вторник».
Он нанес удар прямо, без подготовки, наблюдая за ее реакцией. Она не вздрогнула. Лишь чуть плотнее запахнула пальто.
«Ах, это, – ее голос стал тише. – Да, я знала. Это была ее маленькая месса по ушедшим. Дань памяти».
«Памяти о ком?»
Она помолчала, глядя под ноги, на узор из света и тени, который ложился на дорожку от голых ветвей деревьев. «Элен пережила многих, комиссар. Двух мужей, сына, погибшего в Индокитае… Войну. Она говорила, что у каждого в душе есть свое маленькое кладбище. Ее роза была для всех безымянных могил на нем. Красный – цвет жизни, которую они потеряли. Черный – цвет ее вечного траура».
Ее объяснение было логичным, поэтичным и совершенно неудовлетворительным. Оно было слишком гладким, слишком законченным. Словно отрепетированным.
«И убийца знал об этом ритуале, – продолжил Дюбуа, не сводя с нее глаз. – Он использовал ее собственную мессу против нее. Превратил ее символ памяти в свою подпись».
«Возможно, – ее голос был нейтрален. – Или это просто дьявольское совпадение. Мир полон таких жестоких рифм».
Они вышли на широкую площадку перед Люксембургским дворцом. Небо было низким, свинцовым, и белизна каменного фасада казалась под ним почти болезненной. Элиза остановилась и повернулась к нему. Теперь свет падал ей прямо в лицо, и он увидел в ее глазах глубоко спрятанную усталость.
«Скажите, комиссар, почему вы пришли ко мне? Вы ведь не верите, что я могу назвать вам имя убийцы. Вы пришли, чтобы посмотреть, как я отреагирую на ваши вопросы. Вы изучаете меня, как энтомолог – редкую бабочку, пытаясь понять, есть ли яд на ее крыльях».
«Я изучаю всех, кто был близок к жертве, – его голос прозвучал жестче, чем он хотел. – Баронесса была вашей покровительницей. Вы были обязаны ей своим успехом. Иногда благодарность – тяжелое бремя. Иногда оно становится мотивом».
Она рассмеялась. Тихим, горьким смехом. «Мотив? Убить женщину, которая дала мне все, чтобы что? Чтобы унаследовать ее место в свете? Чтобы завладеть ее коллекцией? Поверьте, комиссар, я предпочитаю зарабатывать на свои картины, а не получать их по завещанию. Это гораздо интереснее».
Она снова двинулась вперед, в сторону английской части сада, где аллеи становились более извилистыми, а деревья росли свободнее, создавая ощущение дикого леса в сердце города.