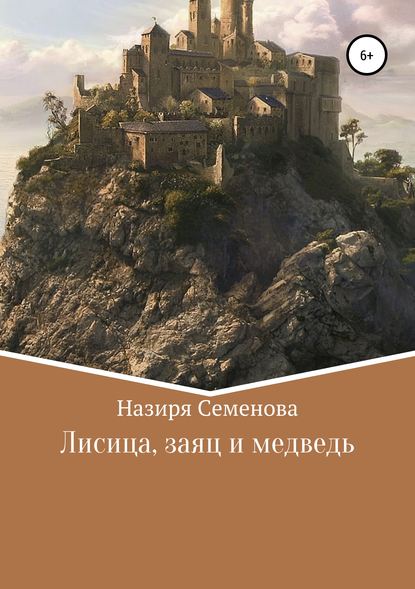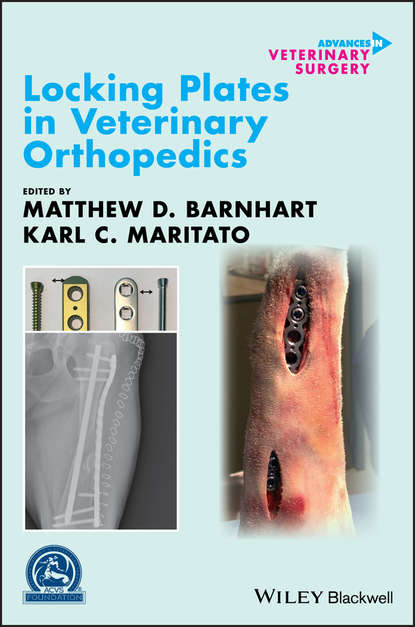Красная роза в черном вазоне

- -
- 100%
- +
«А что ваш мотив, комиссар Дюбуа? – неожиданно спросила она, меняя правила игры. – Что заставляет вас каждое утро вставать и идти на работу, где вы целый день смотрите на самые уродливые проявления человеческой натуры? Простое чувство долга? Вера в справедливость?»
Вопрос застал его врасплох. Никто никогда не спрашивал его об этом. Его работа была данностью, как погода или смена времен года.
«Я пытаюсь навести порядок в хаосе», – ответил он, подбирая слова.
«Порядок? – она остановилась у старой, замшелой скамьи, спрятанной в нише из подстриженного тиса. – Какая иллюзия. Хаос всегда побеждает, комиссар. Вы ставите одну книгу на полку, а в это время рушится весь стеллаж. Вы ловите одного убийцу, а в это время рождаются десять новых. Ваша работа – это попытка вычерпать океан ложкой. Неужели вы этого не понимаете?»
«А какова ваша альтернатива? Сидеть и смотреть, как волны поглощают город?»
«Моя альтернатива – создавать маленькие островки смысла в этом океане абсурда, – она провела рукой по спинке скамьи. – Картина, скульптура, идеальная композиция из цветов… Это тоже попытка упорядочить хаос. Запереть его в рамку. Придать ему форму. Сделать его безопасным, превратив в красоту. В этом смысле, мы с вами коллеги. Просто у нас разные инструменты».
Они стояли так близко, что он мог уловить тонкий аромат ее духов – что-то терпкое, древесное, с нотой горького миндаля. Он смотрел в ее глаза и видел в них не только интеллект, но и глубокую, застарелую боль. Такую же, какая жила в нем самом. Они были не противниками. Они были выходцами из одной и той же страны теней.
«Ваш Флорист, – продолжила она почти шепотом, – он ведь тоже пытается создать свой островок смысла. Только его инструменты – это нож и чужая боль. Он не просто убивает. Он создает композиции. Он верит, что в смерти есть своя эстетика. Он, как и Полифем, превращает чужое страдание в свое произведение искусства. Вы ищете обычного маньяка с жаждой крови, а искать нужно несостоявшегося гения, чья любовь к красоте мутировала в нечто чудовищное».
Ее слова были не просто догадкой. Они были диагнозом. Она описала убийцу так точно, словно заглянула ему в душу. Словно она знала этот тип людей.
«Откуда вы это знаете?» – его голос был глухим.
«Я вращаюсь в мире, где одержимость красотой – это профессия, комиссар. Я видела художников, готовых продать душу за идеальный мазок. Видела коллекционеров, готовых убить за редкую вещь. Грань между страстью и безумием очень тонка. Иногда достаточно одного неверного шага, чтобы ее перейти».
Они помолчали. В наступившей тишине был слышен лишь стук капель, падавших с веток на мокрую землю. Дюбуа чувствовал, что этот разговор вытягивает из него силы, но одновременно и проясняет что-то важное. Она не давала ему улик. Она давала ему ключ к шифру. Она учила его говорить на языке убийцы.
«Баронесса… У нее были враги в этом вашем мире одержимых эстетов?»
Элиза медленно покачала головой. «Элен не была игроком. Она была меценатом. Она покупала то, что ей нравилось, а не то, что было модно. Она судила сердцем, а не кошельком. Но… – она запнулась, словно подбирая слова, – у нее были призраки. Как и у всех, кто пережил войну и видел, как мир, который они знали, рассыпался в прах».
«Какие призраки?»
«Не те, что требуют мести или денег, комиссар. Скорее, те, что приходят во снах и напоминают о старых ошибках. О несправедливых решениях, принятых давным-давно. О талантах, которым не дали раскрыться, о судьбах, которые были сломаны по чьей-то прихоти. Мир искусства, особенно в те годы, до войны, был полем битвы, где репутации создавались и уничтожались за один вечер. Элен была частью этого мира. Иногда она была судьей».
Вот оно. Тонкая, едва заметная нить, которую она ему бросила. Не обвинение. Не улика. Просто направление. В прошлое. Довоенное прошлое.
«Вы говорите о чем-то конкретном?» – надавил он.
Она посмотрела на него долгим, пронзительным взглядом. В ее глазах он прочел предупреждение.
«Я говорю о том, комиссар, что вам стоит искать мотив не в бухгалтерских книгах баронессы, а в старых каталогах с выставок. Иногда самые страшные преступления вырастают из семян, посаженных десятилетия назад. Они долго зреют в темноте, а потом дают ядовитые всходы».
Она посмотрела на свои часы. «Мне пора. У меня встреча в галерее».
Она развернулась, чтобы уйти, но Дюбуа сделал шаг и мягко взял ее за локоть. Ее рука под тонкой шерстью пальто была хрупкой, но не слабой. Она замерла, но не отстранилась.
«Почему вы мне помогаете?» – спросил он тихо.
Она не смотрела на него. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, на серую гладь пруда.
«Может быть, потому, что я не хочу, чтобы этот… художник… создал еще одно свое произведение, – сказала она так же тихо. – А может быть, потому, что в вашем взгляде я вижу столько же призраков, сколько видела во взгляде Элен. И мне бы хотелось, чтобы хотя бы один из вас обрел покой».
Она высвободила свою руку, и на этот раз он ее не удержал. Он смотрел, как она уходит по пустой аллее, ее стройный серый силуэт медленно растворяется в туманной дымке сада. Она не оглянулась.
Дюбуа остался один. Холод пробирал до костей. Разговор оставил во рту привкус ржавчины и несбывшихся надежд. Он не получил от нее ни одного факта, который мог бы вписать в рапорт. Но он получил нечто большее. Он получил портрет врага. И смутное, тревожное ощущение, что Элиза Рено не просто свидетель. Она – часть этой картины, написанной кровью и лепестками роз. Возможно, одна из центральных фигур. А возможно – следующий холст.
Он сунул руки в карманы тренча и нащупал пачку «Gauloises». Закурил, глубоко затянувшись горьким дымом. Дым смешался с влажным воздухом сада, на мгновение создав вокруг него непроницаемую завесу. Он чувствовал себя еще более одиноким, чем до этой встречи. Она не развеяла его подозрения. Она придала им форму, вес и почти невыносимую элегантность. И она заставила его признаться самому себе в том, чего он боялся больше всего: его тянуло к ней. Не просто как к женщине, не просто как к загадке. Его тянуло к ней, как человека, тонущего в темноте, тянет к далекому, холодному и, возможно, такому же смертельному свету. Он бросил сигарету на мокрую землю и растер ее носком ботинка, словно пытаясь потушить не только огонек табака, но и новую, опасную искру, которая только что зажглась в его собственной душе.
Холодный мрамор министерства
Слова Элизы Рено остались в его сознании, как осколки стекла в ране: не смертельные, но ноющие при каждом движении мысли. Старые каталоги с выставок. Несправедливые решения. Судьбы, сломанные по чьей-то прихоти. Она дала ему не нить, а целый ворох шелковых шнурков, каждый из которых мог оказаться удавкой. Весь следующий день Дюбуа провел в подвалах Дворца правосудия, в царстве архивной пыли, которая въедалась в легкие и оставляла на языке привкус тлена. Он перелистывал пожелтевшие страницы газет конца тридцатых, вглядываясь в ряды имен в отчетах о вернисажах и художественных конкурсах, и чувствовал себя кладоискателем, который ищет не золото, а ржавый гвоздь на месте давнего распятия. Имена, имена, имена. Они сливались в сплошной гул прошлого, безликий и мертвый. Он не знал, что именно ищет. Он искал диссонанс, но вся эпоха звучала как один большой надтреснутый колокол.
Вернувшись в свой кабинет на набережной Орфевр, он застал Готье, склонившегося над схемой связей. Молодой инспектор с энтузиазмом первооткрывателя соединял имена жертв с десятками других, выстраивая логические цепочки, которые, как знал Дюбуа, вели в никуда.
«Комиссар, я кое-что нашел! – Готье ткнул карандашом в схему. – И баронесса, и букинист Лефевр пользовались услугами одного и того же нотариуса. Месье Дюран с улицы Риволи. Он вел их дела по наследству. Возможно, здесь есть какая-то связь…»
Дюбуа посмотрел на паутину линий на ватмане. Это была карта разума, который верил в порядок. Карта, на которой не было места для поэзии безумия.
«Весь Париж пользуется услугами дюжины нотариусов, Лоран. Это не связь, это совпадение. Мы ищем не общих юристов. Мы ищем общую рану, которую наш Флорист пришел посыпать солью».
Он сел за свой стол, чувствуя, как усталость заливает его свинцом. Разговор с Элизой выпотрошил его, оставив одну звенящую пустоту, которую не мог заполнить ни кальвадос, ни рутинная работа. Она заставила его смотреть не на улики, а в бездну человеческой души, и эта бездна начинала всматриваться в него в ответ. Он закурил, и горький дым «Gauloises» на мгновение показался единственной реальной вещью в этом мире теней и домыслов.
Третий звонок прозвучал не так, как предыдущие. В нем не было нервной спешки дежурного сержанта. Это был холодный, бесстрастный голос из коммутатора префектуры, который соединял его напрямую с кабинетом самого министра внутренних дел. Дюбуа замер с занесенной к пепельнице сигаретой. Такие звонки означали, что игра перешла на совершенно иной уровень.
«Комиссар Дюбуа? – голос на том конце был сухим и властным, как шелест ассигнаций. – С вами будет говорить министр Роше».
Дюбуа похолодел. Ален Роше был не просто министром культуры. Он был серым кардиналом Четвертой республики, человеком, чье влияние простиралось далеко за пределы его официальных полномочий. Он был одним из тех архитекторов послевоенного мира, которые умели строить дворцы на руинах и прятать грязь под дорогими коврами.
«Слушаю, месье министр», – произнес Дюбуа, выпрямившись в кресле.
«Комиссар, – голос Роше был гладким, как полированный мрамор, но под этой гладкостью чувствовалась сталь. – Я не буду утомлять вас предисловиями. Пятнадцать минут назад в своем кабинете в министерстве был найден мертвым мой заместитель, начальник управления изящных искусств, Пьер Дюваль. Обстоятельства… скажем так, требуют вашего личного и немедленного присутствия. И, комиссар… – Роше сделал едва заметную паузу, наполнив ее весом своей власти. – Приезжайте один. И будьте готовы к тому, что это дело перестало быть просто уголовным. Теперь это вопрос государственной важности. Жду вас у служебного входа со стороны улицы Риволи».
Связь прервалась. Дюбуа медленно положил трубку на рычаг. Готье смотрел на него с немым вопросом, его лицо вытянулось.
«Что-то случилось, патрон?»
Дюбуа поднялся, затушил сигарету с такой силой, будто давил гадину. «Случилось, Лоран. Наш Флорист устал от частных коллекций. Он решил выставить свою новую работу в государственном музее».
Министерство культуры располагалось во дворце Пале-Рояль. Его коридоры, выложенные черно-белой плиткой, гулкие и бесконечные, были артериями, по которым текла не кровь, а циркуляры. Воздух здесь был стерильным, пахнущим пчелиным воском, которым натирали старинные панели, и едва уловимым запахом вырождения. Это было место, где искусство превращалось в функцию, а вдохновение – в статью бюджета.
Человек в строгом костюме, представившийся начальником службы безопасности министра, встретил Дюбуа и безмолвно повел его по лабиринту коридоров. Их шаги отдавались гулким эхом под высокими сводчатыми потолками, расписанными аллегорическими фигурами, которые безучастно взирали на них с высоты своего позолоченного бессмертия. Они поднялись по широкой мраморной лестнице, ступени которой были стерты поколениями просителей и интриганов, и остановились перед массивной дверью из резного дуба. Два агента в штатском замерли по бокам, как современные кариатиды.
Начальник охраны тихо постучал и приоткрыл дверь. «Комиссар Дюбуа, месье министр».
Кабинет Пьера Дюваля был воплощением вкуса и статуса. Высокие, до потолка, книжные шкафы из красного дерева, за стеклами которых ровными рядами стояли фолианты в кожаных переплетах. На стенах, обтянутых темно-зеленым шелком, висели в тяжелых рамах подлинники Коро и Делакруа. Огромный письменный стол стиля ампир был завален бумагами, но даже этот беспорядок казался тщательно организованным. Все здесь говорило о человеке, который жил среди красоты, но воспринимал ее как работу.
Само тело было почти незаметно в этой подавляющей роскоши. Пьер Дюваль, мужчина лет шестидесяти, с холеным, породистым лицом и серебряными висками, сидел в своем глубоком вольтеровском кресле. Голова его была откинута на спинку, глаза полуприкрыты, на губах застыло выражение легкого удивления, словно его прервали на середине интересной мысли. На белоснежной рубашке, прямо над сердцем, расплылось небольшое, аккуратное кровавое пятно, похожее на экзотический цветок. На столе, рядом с бронзовой чернильницей, не было следов борьбы. Лишь опрокинутая чашка, из которой на стопку документов вытекла остывшая кофейная гуща, похожая на черную слезу.
Убийство было тихим, интимным, почти вежливым.
Дюбуа медленно обошел стол. Его взгляд был прикован не к жертве. Он искал другое. И он нашел это сразу.
На углу массивного стола, на тщательно расчищенном от бумаг пространстве, стояла она. Красная роза в черном вазоне. Здесь, в этом храме официального искусства, среди подлинных шедевров, эта простая и жуткая композиция выглядела как манифест. Как вызов. Как пощечина всей государственной машине. Она была криком первобытной, кровавой красоты в мире упорядоченной и кастрированной эстетики. Дюбуа почувствовал, как по коже пробежал мороз. Флорист не просто убил чиновника. Он совершил акт вандализма в самом сердце системы. Он повесил свою картину в главном зале Лувра, и эта картина была написана кровью.
Из тени у камина выступила фигура. Это был Ален Роше. Он стоял, засунув руки в карманы идеально сшитого костюма, и смотрел на Дюбуа с холодным, оценивающим выражением. В его глазах не было ни скорби, ни страха. Только досада. Словно он обнаружил некрасивое пятно на своем безупречном ковре.
«Как видите, комиссар, – его голос был тихим, но заполнял собой все пространство. – Наш ценитель прекрасного решил поднять ставки. Он больше не довольствуется буржуазными салонами и пыльными лавчонками. Теперь он жаждет признания на государственном уровне».
Дюбуа не ответил. Он подошел к креслу и осторожно, кончиками пальцев, коснулся еще не остывшей руки Дюваля. Затем его взгляд упал на пол у ножек кресла. Там, на темном узоре ковра, что-то блеснуло. Он присел. Это была запонка. Золотая, с небольшим сапфиром. Она вылетела из манжеты рубашки жертвы. Дюбуа не стал ее трогать, лишь отметил про себя.
«Кто его нашел?» – спросил он, поднимаясь.
«Его секретарь. Мадам Леруа. Он не отвечал на звонки, она вошла и… увидела. Сейчас она в моем кабинете, ей занимается мой врач. Она в состоянии шока, так что для допроса пока не годится».
«Место преступления оцеплено?»
Роше криво усмехнулся. «Комиссар, мы находимся в сердце правительства Франции. Все это здание – одна большая оцепленная зона. Никто не войдет и не выйдет без моего ведома. Ваши эксперты могут приступать к работе, но я хочу, чтобы это было сделано тихо. Без сирен, без толпы зевак у входа. Пресса не должна узнать об этом раньше, чем мы будем готовы сделать официальное заявление».
Дюбуа кивнул. Он понимал правила игры. Это была уже не полиция. Это была политика.
«Мне нужно поговорить с вами, комиссар, – Роше кивнул в сторону двери. – Наедине. Пройдемте ко мне».
Кабинет министра находился в том же крыле, но был зеркальным отражением кабинета его заместителя. Если у Дюваля царил культ прошлого, то здесь властвовало настоящее. Вместо старых мастеров на стенах висели огромные, нервные полотна модных абстракционистов – Сулажа, Матье. Мебель была низкой, функциональной, из светлого дерева и стали. Воздух был другим – кондиционированным, лишенным запахов, отфильтрованным от всех ненужных частиц, включая тепло.
Роше подошел к бару, встроенному в стену, и достал два тяжелых хрустальных стакана.
«Коньяк, комиссар?»
«Нет, спасибо».
«Зря, – министр плеснул себе на два пальца янтарной жидкости. – В ближайшие дни вам понадобится что-то покрепче кофе».
Он сел в низкое кожаное кресло и указал Дюбуа на стул напротив. Между ними был лишь стеклянный журнальный столик, на котором лежала единственная книга в дорогом переплете.
«Итак, Дюбуа, – Роше сделал маленький глоток, смакуя напиток. – Доложите мне. Что вам известно об этом… Флористе? Без газетной чепухи. Только факты».
Дюбуа коротко, без эмоций изложил суть дела. Две предыдущие жертвы, отсутствие видимой связи, modus operandi, роза. Он говорил, а Роше слушал, не перебивая, его глаза, холодные и внимательные, как у хирурга перед операцией, не отрывались от лица комиссара.
Когда Дюбуа закончил, министр несколько секунд молчал, покачивая коньяк в стакане.
«Ничего, – наконец произнес он. – У вас нет ровным счетом ничего. Ни мотива, ни подозреваемых, ни единой зацепки. Только трупы и цветы. Это не работа, комиссар, это импрессионизм. Красивые мазки, но никакой сути».
«Мы работаем над этим, месье министр».
«Мне нужно больше, чем работа. Мне нужен результат. И быстро, – Роше поставил стакан на стол. Звук был резким, как щелчок затвора. – Смерть баронессы – это трагедия для светских салонов. Смерть старого букиниста – пища для бульварных газет. Но смерть Пьера Дюваля… – он подался вперед, и его голос понизился, стал жестким и доверительным. – Это удар по государству. Это вызов. Это заявление о том, что никто не защищен. Что мы, власть, неспособны обеспечить безопасность даже в собственных стенах. Вы понимаете, какие это будет иметь последствия, особенно сейчас, на фоне алжирского кризиса и общей нестабильности?»
Дюбуа молчал. Он прекрасно все понимал.
«Паника, комиссар. Вот чего я боюсь. Паника – это ржавчина, которая разъедает основы государства. И я не позволю этому случиться. Поэтому слушайте меня внимательно. Это дело – ваш абсолютный приоритет. Вы получаете любые ресурсы, любых людей, любой доступ. Но взамен я хочу одного: оно должно быть закрыто. Не раскрыто, заметьте, а именно закрыто. В кратчайшие сроки».
Дюбуа почувствовал, как в груди нарастает холод. Он понял, к чему клонит министр.
«Я не совсем понимаю разницу, месье».
«О, я думаю, вы прекрасно все понимаете, комиссар. Вы не новичок в наших играх, – Роше снова откинулся в кресле, его лицо вновь стало гладким и непроницаемым. – Раскрыть дело – значит найти истинного виновного, кем бы он ни был, чего бы это ни стоило. Закрыть дело – значит представить обществу убедительную и, что самое главное, успокаивающую версию событий. Найти виновного, который устроит всех».
Теперь все было сказано прямо. Без обиняков.
«Вы предлагаете мне найти козла отпущения?» – в голосе Дюбуа прозвучала сталь.
Роше снисходительно улыбнулся. «Я предлагаю вам проявить государственный ум, комиссар. Пьер Дюваль был не просто чиновником. Он был хранителем многих тайн. Культура, знаете ли, это не только картины и книги. Это еще и большие деньги, репутации, политические альянсы. Если вы начнете копать слишком глубоко в его личной жизни, в его делах… боюсь, вы можете выпустить на волю таких демонов, по сравнению с которыми ваш Флорист покажется безобидным садовником. Вы можете навредить интересам Франции. А этого ни вы, ни я не хотим, не так ли?»
Он встал и подошел к огромному, во всю стену, окну, за которым виднелись строгие, симметричные сады Пале-Рояль.
«Взгляните на это, комиссар. Порядок. Гармония. Симметрия. Вот что такое цивилизация. Это воля человека, навязанная дикой природе. Ваша работа – делать то же самое. Навязывать порядок хаосу преступного мира».
Он обернулся. Его лицо в контровом свете было почти неразличимо, превратилось в темный силуэт.
«Сейчас по Парижу бродит много недовольных. Разного рода радикалы, анархисты, экзальтированные поэты, которые ненавидят государство и все, что оно символизирует. Пьер Дюваль был символом. Ярким. Возможно… возможно, вам стоит поискать в этом направлении? Это была бы очень понятная, очень логичная версия. Политическое убийство, замаскированное под действия маньяка. Это сняло бы панику с обывателей и позволило бы нам заодно прижать к ногтю кое-какие экстремистские ячейки».
Он подбросил ему наживку. Аккуратно, элегантно. Ложный след, который уводил от грязного белья министерства в сторону удобных и беззащитных врагов.
«Я ищу убийцу, месье министр. А не политического оппонента», – тихо, но твердо произнес Дюбуа.
Роше несколько секунд смотрел на него, и в темноте силуэта Дюбуа почувствовал, как холодный взгляд министра взвешивает его, оценивает его упрямство.
«Вы хороший полицейский, Дюбуа. Возможно, даже слишком хороший для нашего времени, – наконец сказал он, и в его голосе прозвучало нечто похожее на сожаление. – Но поймите, сейчас не время для идеализма. Сейчас время для эффективности. Я не приказываю вам, комиссар. Я лишь указываю на приоритеты. Найдите мне убийцу. Любого. Но сделайте это быстро. Пока эта история не вышла из-под контроля и не похоронила под собой не только репутацию моего министерства, но и вашу собственную карьеру».
Это была угроза. Вежливая, облаченная в форму отеческого совета, но оттого не менее реальная.
«Ваши эксперты могут начинать, – Роше вернулся к своему столу, давая понять, что разговор окончен. – Мой секретарь передаст вам все необходимые пропуска. Держите меня в курсе. Лично. О каждом вашем шаге».
Дюбуа кивнул, развернулся и вышел. В коридоре его ждал тот же безмолвный охранник. Когда тяжелая дверь кабинета министра закрылась за его спиной, он почувствовал, как с плеч упало напряжение, но на его место пришла глухая, ледяная ярость.
Он шел по гулким мраморным коридорам, и холод камня, казалось, проникал в него через подошвы ботинок. Он только что вышел из кабинета, где ему недвусмысленно предложили совершить сделку с совестью. И он понял, что теперь у него два врага. Один – безумный художник, который убивает во имя красоты. А второй – холодный, расчетливый политик, который готов пожертвовать истиной во имя порядка. И Дюбуа еще не знал, кто из них опаснее.
Флорист оставлял после себя трупы и цветы. Роше и ему подобные оставляли после себя ложь, которая отравляла саму ткань реальности.
Когда он вышел на улицу, сырой парижский воздух показался ему чистым и свежим, как после грозы. Он достал сигарету, но рука его слегка дрожала. Он посмотрел на серое небо, затянутое облаками. Дело Пьера Дюваля стало точкой невозврата. Теперь это была не просто охота на маньяка. Это была битва за право называть вещи своими именами. Битва, в которой он был почти один. И цена поражения в этой битве была гораздо выше, чем просто еще один нераскрытый «висяк». Ценой была его собственная душа.
Красная сельдь в Сен-Жермен
Дождь перестал быть событием и превратился в состояние атмосферы, в постоянную серую влагу, которая пропитывала плащи, мысли и газетные заголовки. Выйдя из министерского склепа Пале-Рояль, Дюбуа не поехал сразу на набережную Орфевр. Он пошел пешком, без цели, позволяя городу омыть его, смыть с него липкий налет чужой воли, чужой лжи. Он чувствовал себя шахматной фигурой, которую только что передвинул невидимый игрок на заранее проигрышную клетку. Предложение министра Роше не было просто циничным советом; это был приказ, облеченный в бархат, ультиматум, поданный на серебряном блюде. Ищи там, где светло, а не там, где потерял. Найди нам монстра, которого мы сможем понять и скормить толпе.
Он шел вдоль Сены, глядя на ее свинцовую, равнодушную воду. Река несла в себе отражения мостов и облаков, перемалывая их в мутную, зыбкую картину, лишенную четких очертаний. Такой же стала и правда в этом деле. Теперь у каждого факта была тень, отброшенная политикой. Каждая улика могла быть не ступенькой к истине, а камнем, подброшенным ему под ноги.
Когда он вернулся в префектуру, Готье встретил его у двери кабинета, его лицо было смесью нетерпения и тревоги. Молодой инспектор держал в руках свежие газеты. Заголовки кричали, захлебываясь истерикой: «ФЛОРИСТ БЬЕТ В СЕРДЦЕ РЕСПУБЛИКИ!», «ТЕРРОР В ПАЛЕ-РОЯЛЬ!». Имя Роше не упоминалось нигде. Утечка была дозированной, хирургически точной.
«Патрон, весь город стоит на ушах! Звонки не прекращаются. Префект рвет и мечет. Что там произошло?»
Дюбуа прошел к своему столу, бросил на него мокрый тренч. Он посмотрел на схему связей, которую Готье так тщательно чертил вчера. Паутина фактов, которая теперь казалась детским рисунком.
«Произошло то, Лоран, что наше расследование получило нового куратора. И его не интересуют наши схемы. Он хочет, чтобы мы написали финал для этой пьесы. Быстро и разборчиво».