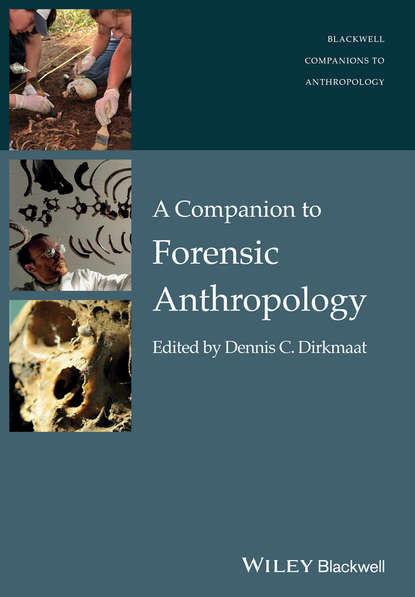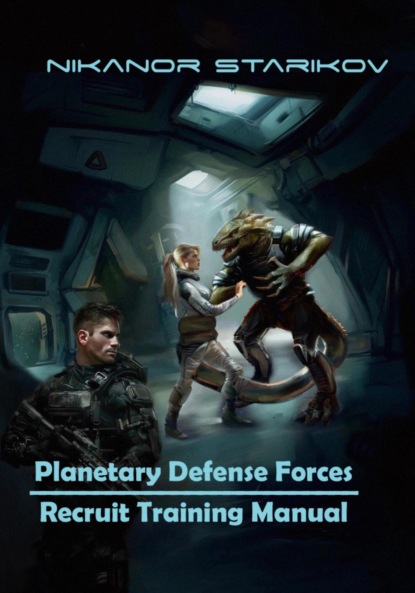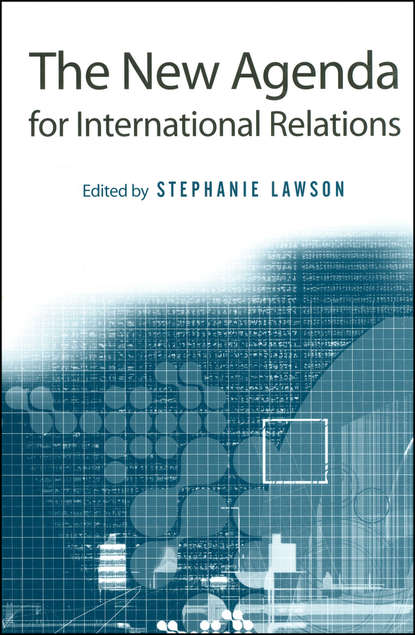Красная роза в черном вазоне

- -
- 100%
- +
Готье не понял. Его прямой, честный ум еще не был приспособлен к таким кривым зеркалам. «Но как? У нас нет ничего, что связывало бы Дюваля с баронессой или букинистом!»
«Значит, эта связь нам больше не нужна, – Дюбуа достал сигарету, закурил. Дым показался ему единственным честным веществом в этой комнате. – Нам указали новое направление. Политическое. Радикалы, анархисты, вся эта пена, что кипит на бульваре Сен-Жермен. Люди, которые ненавидят государство в лице месье Дюваля».
На лице Готье отразилось недоумение, которое быстро сменилось профессиональным азартом. Это была понятная, конкретная задача. Враг был осязаем. У него были адреса, имена, политическая программа.
«Сен-Жермен… – задумчиво произнес он, уже роясь в картотеке. – Там сейчас кого только нет. Экзистенциалисты, сюрреалисты, троцкисты… Они все ненавидят буржуазию, к которой принадлежали и баронесса, и Дюваль. Это может быть…»
«Это может быть чем угодно, – прервал его Дюбуа. Его голос был ровным, лишенным всяких эмоций. – Начинай копать, Лоран. Проверь все досье на известных смутьянов. Но начни с другого. Начни с личной жизни баронессы де Ламбер. Мы искали деловых партнеров, наследников. А давай поищем тех, кого она бросила. Отвергнутая страсть – это тоже своего рода радикализм. Самый древний и самый опасный».
Он сам не до конца понимал, почему дал это второе поручение. Возможно, это была инстинктивная попытка сопротивляться, удержать в руках хотя бы одну нить, не спущенную ему сверху. Или, может быть, это был отголосок его разговора с Элизой Рено, ее слов о чудовищах, рожденных из тьмы.
Квартал Сен-Жермен-де-Пре жил по своим законам, дышал другим воздухом. Здесь запах денег и власти уступал место смеси ароматов свежесваренного кофе, едкого дыма «Gitanes», пыли из книжных лавок и едва уловимого флера интеллектуального снобизма. Дюбуа сидел за столиком в «Les Deux Magots», делая вид, что читает «Le Monde», и наблюдал. Он чувствовал себя чужаком, антропологом, попавшим в племя, чьи ритуалы и язык были ему непонятны. Молодые люди в черных свитерах с высоким горлом и серьезными лицами спорили о Сартре и Камю, их слова тонули в джазовых импровизациях, доносившихся из подвального клуба напротив. Девушки с подведенными черным карандашом глазами и безразличными лицами курили одну сигарету за другой, словно участвуя в соревновании по изящному саморазрушению.
Это был мир идей, мир поз, мир бунта на продажу. Они презирали буржуазный порядок, но пили кофе по цене обеда рабочего из Бельвиля. Мог ли Флорист выйти из этой среды? Дюбуа сомневался. В преступлениях убийцы была холодная, почти математическая точность, дисциплина маньяка. А здесь царил культ хаоса, культ прекрасного беспорядка. Убийства Флориста были классической сонатой, исполненной на виолончели из человеческих костей. А здесь звучал рваный, диссонирующий бибоп.
Готье нашел его на следующий день. Он ворвался в кабинет Дюбуа, возбужденный, как гончая, напавшая на след. В его руках был тонкий рапорт.
«Патрон, у меня есть! Марк Рива. Двадцать шесть лет. Художник. Авангардист. Снимает мансарду на улице Сервандони. И, что самое интересное, – Готье сделал драматическую паузу, – он был последним официальным любовником баронессы де Ламбер».
Дюбуа отложил ручку. «Подробнее».
«Отношения были бурными. Она – его меценат, он – ее молодой гений. Классическая история. Но три месяца назад она его бросила. Судя по показаниям ее горничной, мадам Пикар, это был грандиозный скандал. Он устраивал сцены, кричал, что она ничего не понимает в настоящем искусстве, что она просто старая кошелка, покупающая себе молодость. В последний раз он приходил к ней за неделю до убийства. Горничная слышала, как он кричал: «Ты еще пожалеешь об этом! Я тебя увековечу так, что весь Париж содрогнется!».
Готье победоносно посмотрел на Дюбуа. Мотив был налицо. Угроза была произнесена. Картина складывалась.
«Что с его алиби на вечер убийства баронессы?»
«Никакого, – Готье почти светился от удовольствия. – Говорит, что был один в своей студии, работал. Пил. Никто его не видел с полудня до следующего утра. То же самое в день убийства Дюваля. Он был на какой-то пьянке в Латинском квартале, но ушел рано, около девяти вечера. Никто не знает, куда».
«А Лефевр? Букинист?»
«Здесь сложнее, – признал Готье. – Прямой связи нет. Но его студия в двух шагах от лавки Лефевра. И, как говорят, Рива постоянно был в долгах. Возможно, он пытался ограбить старика, тот его узнал, и…»
Это было слабое место. Очень слабое. Но для начальства, жаждущего результата, оно могло сойти за прочную балку.
«Характер?» – спросил Дюбуа, хотя уже представлял себе ответ.
«Вспыльчивый, заносчивый, агрессивный. Несколько раз задерживался за драки в барах. Считает себя непризнанным гением, ненавидит всех и вся: буржуазию, критиков, правительство… Пьер Дюваль, как глава управления изящных искусств, несколько раз отказывал ему в участии в официальных выставках. Так что и здесь есть мотив – профессиональная месть».
Готье откинулся на спинку стула. «Патрон, это он. Ревность, месть, безденежье. Весь букет. Он идеально подходит. Это наш человек».
Дюбуа молчал. Он смотрел в окно на серую реку. Да, Марк Рива подходил. Он подходил слишком хорошо. Он был словно вырезан из картона по лекалам, предоставленным министром Роше. Бунтарь, презирающий власть. Обиженный любовник. Неуравновешенный психопат. Идеальный козел отпущения. Интуиция, этот старый, больной пес, который спал где-то в глубине его души, заворочалась и глухо зарычала. Что-то было не так. Все это было слишком просто. Слишком грубо.
«Поехали, посмотрим на этого гения», – сказал он, поднимаясь и накидывая тренч.
Студия Марка Рива располагалась под самой крышей старого дома на улице Сервандони, в двух шагах от Люксембургского сада. Лестница была узкой, винтовой, со стертыми деревянными ступенями, пахнущей сыростью и кошками. Чем выше они поднимались, тем сильнее становился другой запах – резкий, химический дух скипидара и масляных красок.
Дверь им открыл сам Рива. Он был высоким, костлявым, с копной взъерошенных черных волос и горящими, лихорадочными глазами. На нем была испачканная краской рубаха, надетая на голое тело, и старые вельветовые штаны. Он не был пьян, но в его зрачках плескалось то нервное, электрическое возбуждение, которое бывает от бессонницы, алкоголя или слишком долгого пребывания наедине со своими демонами.
Он смерил их презрительным взглядом. «Что нужно полиции в храме искусства? Пришли арестовать мои картины за оскорбление общественного вкуса?»
«Комиссар Дюбуа, – представился Жюльен. – Мы можем войти, месье Рива? У нас к вам несколько вопросов».
Рива усмехнулся, но отступил в сторону, пропуская их внутрь. Мансарда была одним большим, заваленным хламом помещением. Единственное, огромное, выходящее на север окно было заляпано краской и грязью, и сквозь него в студию проникал тусклый, рассеянный свет, похожий на тот, что бывает на дне аквариума. Пространство было полем битвы. Вдоль стен громоздились холсты – огромные, агрессивные, покрытые яростными мазками чистых, кричащих цветов. На полу валялись пустые бутылки из-под вина, засохшие тюбики с краской, грязные тряпки, стопки книг. В углу стоял старый диван с вылезшими пружинами, на котором спал тощий черный кот. Воздух был густым, его можно было резать ножом.
«Располагайтесь, если найдете где, – Рива махнул рукой в сторону хаоса. – Только не садитесь на эскизы. Они стоят дороже, чем вся ваша полиция вместе с министром культуры».
Дюбуа остался стоять, медленно осматриваясь. Его взгляд цеплялся за детали. За набросок женского тела, яростно перечеркнутый углем. За незаконченный портрет, в котором черты лица были искажены до неузнаваемости, превращены в гримасу боли. В этом хаосе не было ни капли той холодной, выверенной эстетики, которая была присуща Флористу. Здесь была стихия, ярость, выплеснутая на холст. Не хирургический скальпель, а топор мясника.
Готье, не привыкший к таким декорациям, начал сразу, по-деловому. «Месье Рива, вы были знакомы с баронессой Элен де Ламбер?»
«Знаком? – Рива расхохотался. – Милый мой слуга закона, я ее трахал. Я ее любил. Я ее ненавидел. Я ее писал. Это немного больше, чем «знаком», не так ли?»
«Вы угрожали ей, – Готье сверялся со своим блокнотом. – За неделю до ее смерти вы сказали, что «увековечите ее так, что Париж содрогнется».
«Конечно, сказал! – Рива подошел к одному из холстов, повернул его к ним. На картине было изображено женское лицо, распадающееся на геометрические фигуры, из глазниц текли красные слезы. – Вот! Вот мое бессмертие для нее! Я хотел написать ее портрет. Портрет ее страха, ее пустоты, ее увядания! Я хотел содрать с нее эту маску благополучия и показать червей, которые копошатся у нее в душе! Это и есть настоящее искусство, а не те сладенькие пейзажики, что она вешала у себя на стенах!»
Он говорил страстно, размахивая испачканными в краске руками. Он был актером, упивающимся своей ролью проклятого поэта.
«А где вы были в ночь с десятого на одиннадцатое октября?» – невозмутимо продолжал Готье.
«Здесь, – Рива обвел рукой студию. – Пытался выблевать на холст весь этот ваш паршивый мир. Пил. Может, спал. Я не отмечаю время в календаре, инспектор. Время – это буржуазный предрассудок».
«Вас кто-нибудь может это подтвердить?»
«Мой кот, – Рива усмехнулся. – Но он не любит разговаривать с полицией. У него принципы».
Дюбуа молчал, он просто наблюдал. Он видел браваду. Видел злость, обиду, горечь. Он видел талант, отравленный желчью. Но он не видел холода. Он не видел того ледяного, запредельного спокойствия, которое должно было быть у человека, способного поставить идеальную розу рядом с телом своей жертвы.
«А Пьер Дюваль? – спросил ДюбуА тихо, вклиниваясь в допрос. – Вам знакомо это имя?»
Рива резко повернулся к нему. Его взгляд стал жестче. «Чиновник. Кастрат от искусства. Человек, который решает, что такое красота, исходя из сметы. Он трижды заворачивал мои работы с Салона. Говорил, что они «деструктивны». Конечно, деструктивны! Я хочу разрушить ваш уютный мирок, построенный на лжи и лицемерии! Так что да, я не стал бы плакать на его могиле. Я бы принес туда бутылку дешевого вина и выпил за то, что одним идиотом в мире стало меньше».
«Достаточно, чтобы убить?» – так же тихо спросил Дюбуа.
Рива на мгновение замер. Его бравада дала трещину. В глубине его лихорадочных глаз Дюбуа увидел нечто похожее на испуг. Он понял, что это уже не игра.
«Убить? – он снова рассмеялся, но смех прозвучал фальшиво. – Я художник, комиссар, а не мясник. Я убиваю на холсте. Это честнее. И за это не сажают в тюрьму. Пока что».
Готье посчитал это признанием. Он сделал знак Дюбуа. Все было ясно. Мотив, угрозы, отсутствие алиби, агрессивное поведение. Полный набор.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.