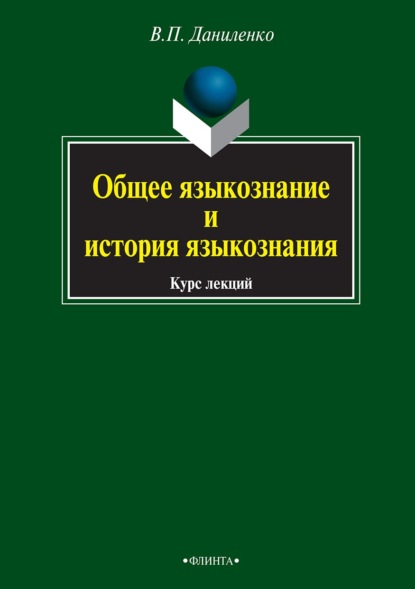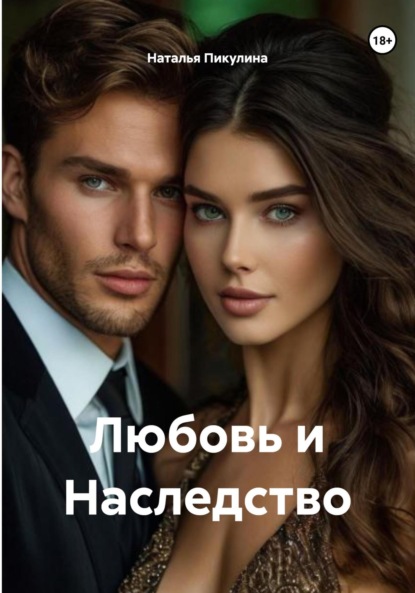Красный ртутный след

Москва, 1974 год. Эпоха застоя, под серым фасадом которой зреют тайные страсти и смертельно опасные интриги. В коридорах власти и на черном рынке шепчутся о «Красной ртути» — мифическом веществе, способном даровать невиданную мощь и изменить расстановку сил на мировой арене. Когда в закрытом научном городке находят изуродованное тело гениального химика, за расследование берется майор КГБ Олег Волков, человек, уставший от лжи системы, но все еще верный своему долгу. Погружаясь в дело, он оказывается в центре паутины, сплетенной из амбиций подпольных миллионеров, холодной ярости криминальных авторитетов и расчетливых ходов иностранных разведок. Каждый шаг Волкова по кровавому следу ведет его глубже в лабиринт, где правда неотличима от вымысла, а вера в несуществующее оружие убивает не хуже настоящей пули. Ему предстоит понять: кто дергает за ниточки в этой дьявольской игре и что страшнее — всемогущий миф или реальные люди, готовые на все ради него.