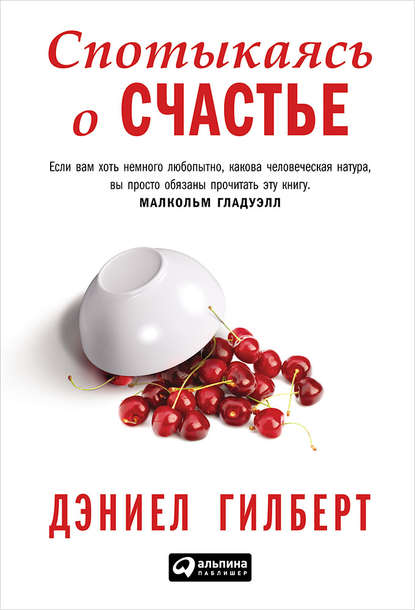Красный ртутный след

- -
- 100%
- +
«Официального расследования не будет», – продолжил он, и его голос стал тише, тверже. – «Дело по Дубне официально закрыто как несчастный случай. Взрыв реактива. Трагическая ошибка. Семье – соболезнования и пенсия. Никаких бумаг. Никаких приказов. Никаких следов. С этой минуты ты работаешь один. Неофициально. Твоя задача – найти убийц Арсентьева. Найти его архив. И самое главное – выяснить, что, черт побери, такое "Красная ртуть" и существует ли она на самом деле. Ты – призрак, Волков. Тебя нет. Если провалишься, если засветишься, – мы тебя не знаем. Я лично подпишу приказ о твоем аресте как иностранного агента, пытавшегося дискредитировать органы. Ты меня понял?»
Я понял. Я был не просто следователем. Я был расходным материалом. Предохранителем, который должен сгореть, если напряжение в сети станет слишком высоким. Меня не втягивали в игру. Меня делали ее центральной фигурой, мишенью, на которую будут нацелены все стволы.
«Так точно, товарищ генерал», – мой голос прозвучал глухо.
«Это не все». Морозов откинулся на спинку массивного кресла, которое протестующе скрипнуло. «Ты слишком давно работаешь в одиночку. Стал неуправляемым. Думаешь, я не знаю о твоих походах по кабакам? О твоих "информаторах" из мира, который мы должны искоренять? В этот раз так не пойдет. Тебе нужен контроль».
Он нажал кнопку на селекторе.
«Вызовите ко мне лейтенанта Малинина».
Дверь открылась почти сразу, словно человек за ней только и ждал этой команды. В кабинет вошел молодой лейтенант. Высокий, подтянутый, в идеально отглаженной форме. Лицо – как с плаката о призыве в армию: открытое, честное, волевой подбородок, ясные голубые глаза. В нем все было правильным до тошноты. От блеска сапог до казенного оптимизма во взгляде. Он встал по стойке «смирно», глядя прямо перед собой.
«Лейтенант Малинин по вашему приказанию прибыл!» – отрапортовал он звонким, полным энергии голосом.
«Вольно, Малинин». Морозов обвел нас обоих тяжелым взглядом. «Знакомьтесь. Майор Волков. Лейтенант Малинин. С этого момента вы работаете вместе. Малинин, ты поступаешь в полное распоряжение майора Волкова. Будешь его глазами, ушами и, если понадобится, руками. Выполнять все его приказы беспрекословно. Обо всем докладывать мне лично. Ежедневно».
Последняя фраза была адресована не лейтенанту. Она была адресована мне. Это был не напарник. Это был надсмотрщик. Нянька. Ошейник, который на меня надели, чтобы держать на коротком поводке. Морозов мне не доверял. Он использовал меня, как используют опытного, но злобного пса, спуская с цепи, но оставляя за спиной человека с ружьем.
«Юрий Малинин», – лейтенант повернулся ко мне и протянул руку. Рукопожатие у него было крепкое, сухое. – «Для меня честь работать с вами, товарищ майор. Я много читал о ваших прошлых делах в архиве».
В его голосе звучало неподдельное восхищение. Он видел во мне легенду, героя. Он еще не знал, что герои существуют только в отчетах и наградных листах. В жизни существуют уставшие, сломленные люди, делающие грязную работу. Я посмотрел в его ясные глаза и увидел в них себя. Пятнадцать лет назад. Такого же верящего в идеалы, в правоту дела, в незыблемость системы. Эта вера дорого мне обошлась.
«Волков», – коротко ответил я, отпуская его руку. – «Архивы врут, лейтенант. Запомни это. Это первое правило нашей работы».
Малинин слегка смутился, но быстро взял себя в руки.
«Так точно, товарищ майор».
«Свободны», – бросил Морозов, давая понять, что аудиенция окончена. Он снова уткнулся в свою пустую папку, словно нас уже не было в кабинете.
Мы вышли. Я и моя тень. Мой контролер. Мое напоминание о том, кем я когда-то был.
В длинном, пустом коридоре наши шаги звучали по-разному. Его – четкий, размеренный строевой шаг победителя. Мои – шаркающее, усталое эхо. Мы шли молча. Воздух между нами был наэлектризован от недоверия и недосказанности.
У лифта Малинин не выдержал.
«Товарищ майор, я понимаю, что мое назначение может показаться вам… неожиданным. Но я хочу заверить вас, что приложу все силы. Я не подведу. Для меня это дело…»
«Замолчи, лейтенант», – прервал я его, не поворачивая головы. Голос мой был тихим, но в гулком коридоре он прозвучал, как выстрел. Малинин осекся.
Я остановился и повернулся к нему. Заглянул в его честные, непонимающие глаза.
«Просто замолчи. Ты ничего не знаешь об этом деле. Ты не знаешь меня. И ты не знаешь, во что мы вляпались. Ты думаешь, это шанс проявить себя? Сделать карьеру? Это не карьера, лейтенант. Это мясорубка. И нас с тобой только что бросили в нее в качестве фарша. Твоя задача – делать то, что я говорю, и не задавать вопросов. Вообще. Особенно тех, ответы на которые ты не хочешь услышать. Понял?»
Он смотрел на меня, и в его взгляде восхищение сменялось растерянностью, а потом – упрямством. Он был не из тех, кто легко сдается.
«Понял, товарищ майор», – сказал он твердо, хотя я видел, что ничего он не понял.
Двери лифта открылись с усталым вздохом. Я шагнул в тускло освещенную кабину. Малинин вошел следом. Мы спускались вниз, в молчании. Два незнакомых человека, связанных одним секретным приказом и общей, пока еще не осознанной смертельной опасностью.
Я достал из кармана пачку «Беломора». Смял папиросу, закурил. Горький, едкий дым наполнил легкие. Он был реальным. Настоящим. В отличие от всего остального.
Игра началась. Ставки были сделаны без моего ведома. Правила мне не объяснили. На руках у меня была только одна карта – два слова, написанные на мятом листке бумаги. И молодой идеалист за спиной, который докладывал о каждом моем шаге генералу, бросившему меня в пасть волкам. Холодный блеск генеральских звезд на сукне его стола еще стоял у меня перед глазами. Это был блеск стали, из которой куют и ордена, и ножи для удара в спину. И мне предстояло очень быстро выяснить, что из этого предназначено для меня.
Разговор с тенью в прокуренном тамбуре электрички
Мы вышли из лифта на первый этаж, в гулкий вестибюль, пахнущий мокрыми шинелями и государственной тайной. Малинин шел в полушаге позади, корректно, как и положено тени. Но тень отбрасывала слишком правильные, слишком четкие блики от начищенных сапог. Она дышала. Она ждала приказа.
«Машину отпусти», – сказал я, останавливаясь у выхода, где стеклянная дверь была расчерчена косыми струями дождя.
«Но, товарищ майор, приказ был доставить вас…»
«Приказ изменился. Я его изменил. Отпусти водителя и жди меня здесь. Я скоро».
Он нахмурился, в его ясных глазах мелькнула тень служебного устава. Он пытался сопоставить мой приказ с тем, последним, который отдал ему Морозов. «Докладывать мне лично. Ежедневно». Эти слова генерала сейчас, должно быть, звучали в его голове набатом.
«Я иду в гастроном через дорогу, лейтенант. За папиросами. Или ты думаешь, я сбегу к английской королеве прямо с пачкой «Беломора»?» – мой голос был ровным, безразличным, но в нем была твердость застарелого металла. – «А если думаешь, можешь пойти со мной. Будешь нести мне авоську. Вдвоем мы будем выглядеть еще менее подозрительно».
Легкий румянец тронул его щеки. Он понял намек. Понял, что я знаю о его истинной задаче. Но он был еще слишком молод и слишком правилен, чтобы признать это. Он выбрал подчиниться прямому начальнику.
«Никак нет, товарищ майор. Жду здесь».
Он отчеканил это так, словно принимал присягу. Я кивнул и вышел под дождь. Холодные капли тут же впились в лицо, смывая с него казенную духоту здания. На той стороне проспекта действительно горели витрины «Гастронома №40». Свет был тусклый, неживой, как свет в аквариуме с дохлыми рыбами. Но я пошел не туда.
Я свернул за угол, в тень массивного здания, туда, где темнота была гуще, а шум проспекта становился глухим бормотанием. Там, у стены, притулилась серая коробка телефонной будки. Стекла были мутными от грязи и исписаны изнутри обрывками вечных истин. Внутри пахло сыростью и чужими, давно остывшими разговорами.
Трубка была холодной и липкой. Я бросил в щель две копейки. Диск прокрутился с усталым скрежетом, отсчитывая номер, который не хранился ни в одной записной книжке. Номер, который жил только в моей памяти. Длинные гудки. Один. Второй. На третьем трубку сняли. Молчание. В этом молчании слышался треск помех и еще что-то – напряженное ожидание.
«Говорит сантехник, – произнес я в трубку стандартный пароль. – У меня трубу прорвало. Заливает все к чертям».
На том конце вздохнули. Голос был тихий, шелестящий, как сухие листья. Голос человека, который привык говорить так, чтобы его не услышали.
«Что за дом?»
«Старый. На Рижском. Последний вагон из области. Через час. Жду в курилке».
«Материал дорогой нынче, – прошелестел голос. – Инструмент тоже…»
«Материал будет. Лучший. Импортный».
Я повесил трубку, не дожидаясь ответа. Разговор был окончен. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что старые механизмы еще работают. Что страх все еще сильнее жадности. Или наоборот.
Малинин ждал меня у входа, прямой, как штык. В руках он держал мой мокрый плащ. В его взгляде читался немой вопрос, который он не решался задать.
«Папирос не оказалось, – бросил я, забирая плащ. – Поехали. Надо заехать в одно место».
Он молча кивнул и пошел к стоянке, где уже ждала черная «Волга». Он не спросил, куда мы едем. Он просто выполнял приказ. Идеальный исполнитель. Идеальный надсмотрщик. Я сел на заднее сиденье и закурил последнюю папиросу из старой пачки. Горький дым наполнил машину. Это был запах правды в этом мире тотальной лжи.
Рижский вокзал был похож на застывшее во времени чистилище. Огромный, гулкий, продуваемый сквозняками, он перемалывал людские судьбы, выплевывая их на перроны и засасывая в темные зевы вагонов. Пахло мокрым камнем, углем, дешевым табаком и безнадежностью. Под сводами высокого потолка метались голуби, такие же серые и потерянные, как и люди внизу.
Я оставил Малинина в машине на площади, приказав ждать. «Это личное, лейтенант. Очень личное. Если не вернусь через два часа, доложишь Морозову, что я ушел за папиросами и не вернулся». Он снова ничего не сказал, только плотнее сжал губы. Его правильное лицо превратилось в маску служебного долга.
Я растворился в толпе. Здесь это было легко. Толпа была безликой массой мокрых пальто, усталых лиц и потухших взглядов. Люди ехали с работы, на работу, от кого-то, к кому-то. Бесконечное броуновское движение частиц в замкнутой системе. Я купил билет до Мытищ в пригородной кассе, у сонной женщины в форменной фуражке, которая смотрела сквозь меня, как на пустое место.
Нужная мне электричка стояла на третьем пути. Старая, зеленая, с облупившейся краской, из-под которой проступала ржавчина. Она тихо вздыхала, словно уставший зверь, готовясь к очередному броску в сырую подмосковную ночь. Я вошел в последний вагон.
Внутри было тепло и тускло. Запотевшие окна превращали мир снаружи в размытые акварельные пятна света и тьмы. Вагон был почти пуст. Несколько сонных пассажиров, разбросанных по жестким дерматиновым сиденьям. Старушка с кошелкой. Мужчина в рабочей спецовке, читающий «Советский спорт». Студент с томиком Хемингуэя. Обычные люди, живущие свои обычные жизни, не подозревающие о том, что рядом с ними, за тонкой перегородкой, сейчас будет решаться судьба мира. Или просто моя собственная. Что, в конечном итоге, одно и то же.
Я прошел в тамбур. Здесь было холодно, пахло металлом и махоркой. Двери с грохотом ходили на своих петлях, сквозь щели задувал влажный ветер. Две мутные лампочки под потолком едва разгоняли мрак, превращая пространство в колеблющийся, дрожащий кокон. Идеальное место для разговора с тенью.
Поезд тронулся. Плавно, почти незаметно. Вокзальные огни поползли назад, потом исчезли, сменившись темнотой промзон, редкими фонарями складов и бесконечными нитями железнодорожных путей, блестящих от дождя. Город нехотя отпускал нас из своих бетонных объятий.
Дверь из вагона скрипнула. В тамбур шагнул человек. Он был маленького роста, сухой, в потертой болоньевой куртке и кепке, низко натянутой на глаза. Он не смотрел на меня. Он прошел к противоположной двери и уставился в грязное стекло, словно разглядывая что-то в мелькающей за окном темноте. Но я знал, что он видит только свое отражение. И меня в нем.
Это был Сыч. Мелкий скупщик краденого, информатор, которого я вел уже лет десять. Он был не вором и не бандитом. Он был из тех, кто крутится рядом, подбирая крошки с чужого стола. Его уши были его главным товаром. Он слышал все, что шепчут в пивных, в притонах, в воровских «малинах». Он был идеальным барометром, показывающим давление в криминальном мире. И сейчас этот барометр, казалось, вот-вот взорвется.
Мы молчали несколько минут. Поезд набрал ход, и грохот колес заполнил тамбур, превратившись в монотонный, гипнотический ритм. Это была наша музыка, наш фон. Я достал пачку «Мальборо», которую купил специально для этого случая у фарцовщика на Гоголевском. Щелкнул импортной зажигалкой. Запах дорогого табака смешался с вонью тамбура.
«Угощайся, Костя», – сказал я тихо.
Он вздрогнул, когда я назвал его по имени. Медленно повернулся. Из-под козырька кепки на меня смотрели испуганные, воспаленные глаза. Глаза ночной птицы, которую внезапно вытащили на яркий свет. Его лицо было серым, небритым, с сеточкой красных прожилок на щеках. От него пахло перегаром и страхом. Страх был основным компонентом этого запаха.
«Не курю, Олег Дмитрич», – просипел он. Он всегда курил. Всегда стрелял у меня сигареты.
«Бросил? Завязал?»
«Здоровье… это… пошаливает».
Он врал. Его руки мелко дрожали. Он то засовывал их в карманы, то вытаскивал снова, не зная, куда их деть.
Я протянул ему пачку. «Это не «Прима». Это лекарство. От нервов».
Он колебался секунду, потом выхватил сигарету так быстро, словно боялся, что я передумаю. Прикурил от моей зажигалки, глубоко затянулся. Дым, казалось, немного успокоил его. По крайней мере, дрожь в руках стала меньше.
«Что у тебя, Костя? Почему такой дерганый?»
Он снова посмотрел в окно, избегая моего взгляда. «Время такое, Дмитрич. Нервное. Все на нервах».
«Не юли. Я тебя не за погоду приехал спрашивать. В городе что-то происходит. Что-то большое. Я это шкурой чую. А ты – ушами».
Сыч снова затянулся, так глубоко, что сигарета затрещала. Он выпустил дым в сторону, в щель между дверями.
«Лучше б я оглох, Дмитрич. Честное слово. Лучше б я совсем оглох и ослеп. Жил бы себе тихо в деревне, коров пас…»
«Про коров мне потом расскажешь. Давай по делу. Что за шум?»
Он замолчал. Грохот колес стал громче, когда мы проносились по мосту над какой-то темной рекой. Свет редких фонарей на мосту на мгновение выхватил его лицо. Оно было искажено гримасой неподдельного ужаса.
«Это не шум, Дмитрич. Это… это землетрясение. Под землей гудит. Скоро рванет, всех засыплет».
Я ждал. Я знал его манеру говорить загадками, нащупывать почву. Он боялся. Боялся тех, о ком будет говорить. И боялся меня.
«Красный порошок, – сказал я, глядя ему прямо в глаза. – Тебе говорит о чем-нибудь это название?»
Сыч дернулся так, словно я ударил его. Сигарета выпала из его пальцев, рассыпав сноп искр по грязному металлическому полу. Он посмотрел на меня с таким выражением, будто я только что произнес имя дьявола в церкви.
«Откуда…» – прошептал он, и его голос сорвался.
«Оттуда, Костя. Рассказывай. Все, что знаешь. И не ври. Я сегодня очень не люблю, когда мне врут».
Он облизал пересохшие губы. Его взгляд метался по тамбуру, словно ища выход. Но выхода не было. С одной стороны – я. С другой – те, другие. И он был зажат между нами, как между молотом и наковальней.
«Две недели назад началось, – заговорил он быстро, сбиваясь, слова цеплялись друг за друга. – Сначала шепотом. Вроде как сказка. Про какую-то хреновину. Красную. То ли порошок, то ли жидкость… Никто толком не знает. Но вроде как… если она у тебя есть… ты бог. Ты можешь все. Деньги, власть… вечная жизнь, чтоб ее. Алхимия какая-то, честное слово».
«Кто начал?»
«Кто ж его знает. Оно как зараза пошло. Сначала цеховики засуетились. У них нюх на такие вещи. Где пахнет большими деньгами, они первые. Потом блатные уши навострили. Серьезные люди. Законники. Те, кто обычно на такую чепуху не ведется».
Поезд замедлил ход, проезжая мимо какой-то маленькой, темной станции. На перроне не было ни души. Только одинокий фонарь выливал лужу желтого света на мокрые доски. Станция-призрак в ночном лесу.
«Имена, Костя. Мне нужны имена».
«Я не знаю имен, Дмитрич! – его голос снова поднялся до визга, и он испуганно оглянулся на дверь в вагон. – Я шестерка, вы ж знаете. Я слышу разговоры. Тени вижу. Имен не знаю. Но… Гвоздь интересуется. Очень. Сам не светится, но его люди везде рыщут. Нос суют в каждую щель. А если Гвоздь чем-то интересуется… значит, это не сказка».
Гвоздь. Семен Аркадьевич Григорьев. Крупнейший теневой делец Москвы. Человек, построивший подпольную империю на дефиците, левых цехах и коррупции. Он был не просто бандитом. Он был бизнесменом новой, советской формации. Умный, жестокий, безжалостный. Если в эту игру вступил Гвоздь, значит, ставки были выше, чем я мог себе представить.
«Что еще?» – надавил я.
«Это… это уже не просто разговоры, Дмитрич. Уже кровь пошла. – Сыч сглотнул, его кадык дернулся. – Неделю назад в Люберцах двоих нашли. Братья Косые. Урки молодые, безбашенные. Они тоже решили на этом деле подняться. Где-то что-то услышали, решили, что схватили бога за бороду. Начали искать выходы, хвастаться, что почти договорились… Нашли их в лесопарке. С перерезанными глотками. От уха до уха. И языки вырезаны. Чтоб не болтали лишнего. Показательно. Для всех остальных, кто слишком любопытный».
Картина становилась все уродливее. Убийство Арсентьева было не началом. Оно было лишь одним из эпизодов. Бойня уже началась. И она шла не в тиши секретных лабораторий, а на улицах, в темных переулках, в лесопарках. Утечка была не просто утечкой. Это был прорванный гнойник. И его содержимое хлынуло в криминальный мир, отравляя все вокруг.
«Кто еще, кроме Гвоздя?»
«Все, Дмитрич. Почти все. Кто покрупнее. Сходняки каждый день. Воры друг на друга косятся. Старые союзы трещат. Каждый думает, что сосед вот-вот эту штуку найдет и всех остальных под нож пустит. Паранойя. Как в тридцать седьмом, ей-богу. За информацию… за любую кроху информации о порошке или о людях, которые с ним связаны… платят такие деньги, каких я в жизни не видел. И убивают. За одно неосторожное слово убивают».
Он замолчал, тяжело дыша. Он рассказал все. Вывернул свой страх наизнанку. Теперь он был пуст и еще более уязвим.
Я достал из внутреннего кармана несколько сложенных сотенных купюр. Новые, хрустящие. Протянул ему.
«Это на корову. В деревне».
Он посмотрел на деньги, потом на меня. В его глазах была смесь жадности и ужаса. Он понимал, что эти деньги – плата не только за информацию. Это плата за риск. И клеймо. Теперь он мой. Окончательно.
Он быстро, по-птичьи, выхватил деньги и сунул в карман.
«Профессор был… Арсентьев… – вдруг прошептал он, словно вспомнив что-то важное. – Фамилия такая… Про него спрашивали. Про его семью. Дочь, вроде, у него есть…»
Это был удар под дых. Они уже ищут Анну. Они не знали, что искать, и поэтому искали всех, кто был рядом с источником.
Поезд начал тормозить. Мы подъезжали к Мытищам.
«Тебе здесь сходить, Костя. – мой голос был глухим. – Сядешь на встречную. И заляг на дно. Глубоко. Так, чтобы даже я тебя найти не смог. Если всплывешь – ты покойник. Понял?»
Он судорожно закивал. Его лицо было цвета мокрого асфальта.
«Понял, Дмитрич. Все понял. Я… я теперь не существую».
Поезд остановился. Сыч, не глядя на меня, дернул ручку двери и выскочил на темный, пустынный перрон. Он не побежал. Он просто быстро пошел, почти растворяясь в ночной мгле, маленькая, сутулая фигура, уносящая свой страх и мои деньги. Через мгновение он исчез. Словно его и не было.
Двери с шипением закрылись. Поезд дернулся и снова пополз во тьму. Я остался один в грохочущем, холодном тамбуре. Достал свою пачку «Беломора», размял папиросу. Руки слегка дрожали, и я никак не мог попасть концом папиросы в огонь зажигалки.
Разговор с тенью состоялся. И тень подтвердила худшее. Это была не просто охота спецслужб за секретной формулой. Это была золотая лихорадка. Всеобщая, кровавая, безумная. Цеховики, воры в законе, и где-то на периферии – иностранные разведки. Все они гонялись за призраком, за мифом о всемогуществе. И этот миф уже обрел плоть и кровь. Кровь Арсентьева. Кровь братьев Косых.
Я наконец прикурил. Едкий дым обжег горло. Утечка произошла. Давно. И теперь этот вирус, эта вера в красное чудо, распространялся с чудовищной скоростью, порождая хаос и смерть. И я был в самом его эпицентре. Не следователь. Не охотник. А просто еще одна фигура на доске, которую двигала чужая, невидимая рука. И вокруг меня сжималось кольцо из теней, гораздо более страшных, чем маленький, перепуганный Сыч. Они уже искали Анну.
Электричка неслась сквозь ночь, сквозь индустриальные пейзажи Подмосковья, мимо темных заводов и тускло освещенных станций. А я стоял в прокуренном тамбуре, и холодный ветер задувал мне в душу, и я понимал, что эта ночь еще очень, очень далека от рассвета.
Осколки прошлого в пыльной мастерской на Арбате
Адрес, нацарапанный карандашом на вырванном из блокнота листке, привел меня на Арбат. Не на парадную, витринную его часть, а в один из кривых, горбатых переулков, вросших в главный проспект, как ребра в позвоночник. Дождь здесь казался гуще, а тени глубже. Он стекал по лепнине облупившихся фасадов, оставляя грязные подтеки, словно слезы на лице немытого старика. Воздух был пропитан сырой штукатуркой и выхлопными газами редких машин, пробиравшихся по узкому проезду. Внизу, у подъезда, остался Малинин. Он сидел в незаметной «Волге» из автопарка Девятого управления, изображая скучающего водителя, ждущего начальника с какого-нибудь совещания. Идеальное прикрытие. Он был идеальным во всем. И это раздражало больше всего. Он был моим поводком, и сейчас я чувствовал его натяжение даже сквозь толщу кирпичных стен.
Нужная квартира находилась на последнем этаже старого доходного дома, в мансарде, куда вела узкая, скрипучая лестница, пахнущая кошками и прокисшими щами. Лифта не было. Поднимаясь, я считал стертые ступени, и каждый шаг отдавался глухим эхом в моем сознании. Они уже ищут ее. Гвоздь. Воры. Цеховики. Тени без имен и лиц. Они не знали, что искать, поэтому собирались трясти всех, кто мог знать. А дочь – это первый, кого начинают трясти. И я шел к ней, неся в себе эту грязную новость, как скрытую болезнь. Я был вестником беды, хотя официальной причиной моего визита были соболезнования и пара рутинных вопросов. Ложь была моей униформой.
Дверь была обита старым, потрескавшимся дерматином. Латунная табличка с выгравированной фамилией «Арсентьевы» потускнела от времени. Я нажал на кнопку звонка, услышав внутри дребезжащий, надтреснутый звук, похожий на кашель астматика. Долго никто не открывал. Я уже хотел нажать снова, когда за дверью послышались тихие шаги. Щелкнул один замок, потом второй, более тугой.
Дверь приоткрылась ровно на длину цепочки. В темной щели я увидел лицо. Оно принадлежало молодой женщине. Большие, темные глаза, сейчас опухшие от слез, смотрели с настороженным вопросом. В них не было страха, только бездонная усталость и глухая боль. Длинные русые волосы были небрежно собраны на затылке, несколько прядей выбились и падали на высокий лоб. Она была в простом темном платье, поверх которого был надет рабочий фартук, испачканный краской.
«Анна Игоревна Арсентьева?» – мой голос прозвучал в гулкой тишине подъезда чужеродно, как скрежет металла по стеклу.
«Да», – ответила она тихо, но твердо. «Вы кто?»
«Майор Волков. Комитет Государственной Безопасности. Могу я войти? Есть несколько вопросов по поводу вашего отца».
Я ожидал чего угодно: что она захлопнет дверь, начнет кричать, позовет на помощь. Но она лишь внимательно, изучающе посмотрела на меня. Ее взгляд скользнул по моему лицу, по казенному плащу, по рукам. Она словно пыталась прочитать что-то не в моих словах, а во мне самом. Потом, с едва слышным вздохом, она закрыла дверь, сняла цепочку и снова открыла, отступая вглубь квартиры.