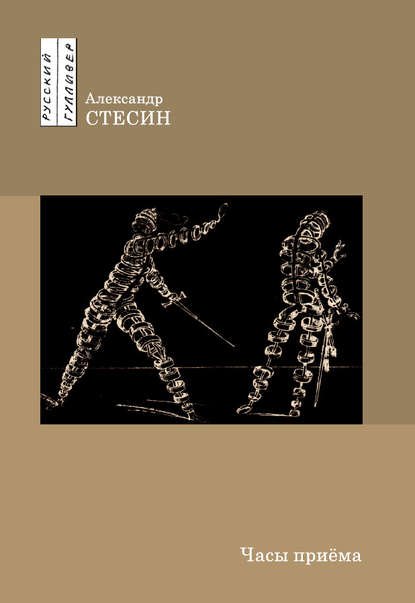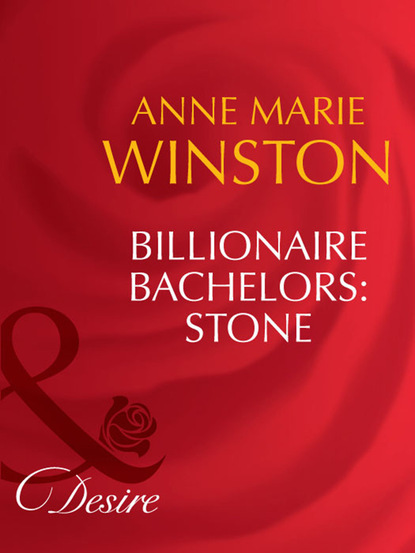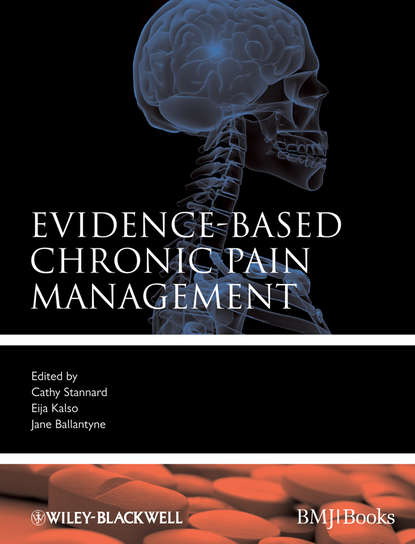Красный ртутный след

- -
- 100%
- +
«Проходите».
Я шагнул через порог, и мир изменился. Словно я перешел из черно-белого кино в цветное. Затхлый запах подъезда сменился сложным, терпким ароматом скипидара, льняного масла, старого дерева и пыли. Это был не запах запустения, а запах работы, запах жизни, замершей в процессе. Квартира оказалась мастерской. Или мастерская была квартирой. Огромное, почти во всю стену, наклонное окно мансарды смотрело на мокрые крыши Москвы. Дневной свет, серый и безжизненный, проходя сквозь него, становился мягким, рассеянным, заполняя пространство рабочей тишиной.
Вдоль стен стояли стеллажи, забитые книгами по искусству, банками с пигментами, склянками с лаками. На мольбертах стояли иконы. Старые, темные доски, с которых смотрели строгие, всезнающие лики святых. Некоторые были в процессе реставрации: расчищенные участки горели первозданными, чистыми красками – киноварью, лазуритом, золотом. Они сияли посреди вековой копоти, как окна в другой мир. В центре комнаты стоял большой рабочий стол, заваленный инструментами, кистями, ватными тампонами. Здесь шла тихая, кропотливая война со временем. Битва за сохранение смысла.
Она молча указала мне на старое кресло с протертыми подлокотниками. Сама села на высокий табурет у стола, спиной к свету. Ее силуэт четко вырисовывался на фоне окна. Хрупкий, но не сломленный.
«Я слушаю вас, товарищ майор». Она произнесла мое звание с едва уловимой иронией. Интеллигентская ирония, щит против казенщины.
«Анна Игоревна, примите мои соболезнования. Ваш отец был великим ученым». Стандартная формула. Звучала фальшиво даже для моих ушей.
Она криво усмехнулась. «Официальная версия – несчастный случай. Переутомление, взрыв колбы. Я правильно понимаю?»
«Это предварительная версия», – солгал я, глядя ей в глаза.
«Предварительная ложь», – поправила она. Голос ее не дрогнул. «Мой отец не был неряхой. Он был педантом. И его сердце было здоровым, как у космонавта. Он проходил медкомиссию каждые полгода. Вы ведь это знаете».
Я молчал. Она была умнее, чем я предполагал. Прямолинейнее.
«Что вы на самом деле хотите узнать, майор?» – спросила она, сложив на коленях тонкие, длинные пальцы, тоже испачканные краской. «Вам ведь не интересна правда о его смерти. Вам интересно то, над чем он работал».
«Мне интересна правда. Любая», – сказал я. И в этот момент это было почти истиной. «Ваш отец… в последнее время он не вел себя странно? Не выглядел обеспокоенным, напуганным?»
Она надолго замолчала, глядя на темную доску перед собой. На ней проступали очертания Богоматери. Лик был почти стерт, остались только глаза. Печальные, мудрые.
«Он всегда был… в себе», – наконец произнесла она. «Он жил в своем мире. Мире идей, формул. Но в последние месяцы он изменился. Стал… рассеянным. Словно слушал что-то, чего не слышали другие. Иногда я заставала его стоящим у окна. Он просто смотрел на улицу. Часами. Он никогда так не делал раньше. Он говорил, что реальный мир – это лишь несовершенное отражение мира идей. А тут вдруг начал вглядываться в отражения».
«Он говорил, что за ним следят?»
Она перевела на меня взгляд. В нем промелькнуло что-то новое. Недоверие смешалось с любопытством. «Нет. Не говорил. Но я это чувствовала. Возле дома стали появляться одинаковые люди в одинаковых плащах. Они читали газеты в любую погоду. Иногда по ночам в телефонной трубке раздавались щелчки. Отец делал вид, что не замечает. Но он все замечал. Он просто не хотел меня в это втягивать».
«У него были враги? Конфликты на работе?»
«Враги? – она снова усмехнулась, но на этот раз горько. – У него не было врагов, майор. У него были только конкуренты. Мелкие, завистливые люди, которые не понимали и половины того, о чем он думал. Они не враги. Они просто… плесень. Она не убивает дерево, она просто растет на нем, когда оно начинает гнить».
Она говорила об отце с такой смесью любви и почти религиозного почитания, что это исключало любую мысль о его причастности к чему-то грязному, противозаконному. В ее мире он был гением, пророком, которого не поняли. И этот мир сейчас рухнул.
«За неделю до… до всего, – ее голос впервые дрогнул, – он приехал ко мне. Вечером. Это было странно, он редко покидал свой город. Он был взволнован. Не напуган. Именно взволнован, как человек перед важным выступлением. Он привез с собой одну вещь. И попросил меня ее спрятать. Сказал, что это очень важно. Сказал, что если с ним что-то случится, я должна отдать это тому, кто будет искать не виновных, а истину».
Мое сердце, старый, изношенный механизм, пропустило удар. Это было оно. То, за чем я приехал. То, чего не нашли в разгромленной лаборатории. Личный архив.
«Что это за вещь, Анна Игоревна?»
Она встала, подошла к одному из стеллажей, заставленному тяжелыми фолиантами. Провела рукой по корешкам, словно ища нужный. Потом отодвинула несколько книг и извлекла из глубины полки то, что там было спрятано.
Это был не ящик с бумагами и не папка с документами. Это был старый, потрепанный дневник в обложке из толстой, потемневшей кожи, перетянутый кожаным же ремешком. Он выглядел как нечто из другого века.
Она положила его на стол передо мной. Пылинки, потревоженные ее движением, затанцевали в луче света от окна.
«Вот», – сказала она. – «Он вел его почти всю жизнь. Но в последние годы забросил. А полгода назад снова начал писать. Почти каждый день».
Я протянул руку, но не коснулся дневника. «Он говорил, что в нем?»
«Он сказал, что в нем – он сам. Настоящий. Не профессор Арсентьев, лауреат и академик. А просто Игорь. Сказал, что формулы лгут, они лишь описывают тень от реальности. А здесь, – она коснулась кончиками пальцев кожаной обложки, – он пытался поймать саму реальность». Она посмотрела мне прямо в глаза. Ее взгляд был испытанием. «Теперь вы должны решить, майор, за чем вы пришли. За тенью или за реальностью».
Это был поединок. Она отдавала мне самое ценное, что у нее осталось от отца, и одновременно бросала вызов. Проверяла меня. Я медленно развязал ремешок. Он поддался с сухим шорохом. Открыл первую попавшуюся страницу.
Я ожидал увидеть столбцы расчетов, химические формулы, чертежи. Но страница была заполнена убористым, бисерным почерком, который то и дело сбивался на вставки на латыни и древнегреческом. Это были не научные записи. Это были философские эссе, размышления, афоризмы.
«Человек – это существо, создающее мифы, – прочел я вполголоса. – Мы строим цивилизации на историях, которые рассказываем друг другу. Наука – самый могущественный миф из всех, ибо она лучше других притворяется реальностью. Но что, если создать миф абсолютный? Миф, вера в который будет изменять реальность сильнее, чем сама реальность? Создать гомункула из чистой веры, который пожрет своих создателей…»
Я перелистнул несколько страниц.
«Алхимики искали не золото. Они искали способ превращения. Трансмутации. Превращения материи. Но главный их секрет был в том, что они искали способ превращения духа. Они поняли, что материя – лишь глина в руках веры. Дай людям достаточно сильный символ, и они сами превратят свинец в золото, а потом и золото в прах. Величайшее оружие – это не то, что убивает тело, а то, что порабощает разум».
Я снова посмотрел на Анну. Она наблюдала за мной, не отрываясь.
«Здесь нет никаких формул», – констатировал я очевидное.
«Он говорил, что его главное открытие не в химии», – ответила она. – «Оно в… человеческой природе. Он сказал, что совершил ужасную ошибку. Он думал, что затеял игру, но оказалось, что он просто подбросил спичку в пороховой погреб. Он говорил о каком-то великом обмане. Обмане, который должен был стать лекарством, но оказался ядом».
Великий обман. Эти слова эхом отозвались в тишине мастерской. Они соединились с шепотом Лазарева, со страхом Сыча, с тяжелым молчанием Морозова. Картина становилась все более странной, безумной. Я приехал искать формулу сверхоружия, а нашел дневник философа-мистика.
Я закрыл дневник. Кожаная обложка была теплой от моих рук.
«Почему вы отдаете это мне?» – спросил я. – «Вы мне не доверяете».
«Я не доверяю вашей конторе», – поправила она. – «Она сожрала моего отца, а теперь хочет сожрать его наследие. Но вы… вы задаете правильные вопросы. И в ваших глазах нет той пустой уверенности, которая есть у всех остальных. В них есть сомнение. А только сомневающийся человек может найти истину. Мой отец верил в это». Она помолчала. «И еще потому, что я боюсь. Сегодня ночью кто-то пытался вскрыть замок. Я слышала, как ковыряются в скважине. Я спугнула их, включив свет в коридоре. Они придут снова. И я не думаю, что они пришли за старыми иконами».
Удар под дых. Сыч был прав. Они уже здесь. Они опоздали совсем на немного. Мое появление, возможно, спугнуло их наблюдателя.
«Вам нельзя здесь оставаться», – сказал я, и мой голос стал жестким, приказным. Голос майора Волкова, а не сомневающегося человека. «Собирайте вещи. Самое необходимое. У вас есть, где пожить? Друзья, родственники, но только те, кому вы абсолютно доверяете».
Она посмотрела на меня с удивлением, потом с новым витком недоверия. «Вы меня пугаете, майор».
«Я пытаюсь вас спасти, Анна Игоревна. Люди, убившие вашего отца, не остановятся. Они считают, что у вас есть то, что им нужно. И они не будут задавать вопросы так вежливо, как я».
Я встал. Взял дневник со стола. Он был тяжелым, как будто кожа и бумага впитали в себя всю тяжесть мыслей и страхов профессора.
«Уезжайте. Прямо сейчас. Не возвращайтесь сюда, пока я вас не найду. Это не просьба».
Я пошел к двери, чувствуя ее взгляд на своей спине. У самого порога я остановился и обернулся. Она стояла там же, посреди своего островка света и смысла, который вот-вот должен был поглотить окружающий мрак. Хрупкая фигура, на которую обрушилась вся тяжесть мира.
«Он был хорошим человеком, майор», – сказала она тихо, словно в пустоту. – «Он просто заглянул слишком глубоко в бездну. А она, как известно, любит заглядывать в ответ. Не дайте им превратить его в монстра».
Я кивнул, не найдя слов. Вышел за дверь, тщательно прикрыв ее за собой. На лестнице меня снова обнял холод и запах тлена. Я спускался вниз, сжимая в руке дневник. Это был не ключ к разгадке. Это был ключ к новой, еще более запутанной головоломке. Я искал красную ртуть, а нашел дневник алхимика. И понял, что Игорь Арсентьев был гораздо опаснее, чем предполагал генерал Морозов. Он создал не оружие. Он создал идею. А идеи убивают надежнее любой пули. Они не оставляют следов на теле, они просто выжигают душу. И эта эпидемия уже началась.
Внизу, в машине, ждал Малинин. Он увидел меня, вышедшего из подъезда, и в его глазах я прочел немой вопрос. Я сел на переднее сиденье, положив дневник на колени.
«Что это, товарищ майор?» – все-таки не выдержал он.
«Это», – сказал я, глядя на мокрые крыши Арбата, где в мансардном окне еще горел свет, – «либо завещание гения, либо предсмертная записка безумца. И нам предстоит это выяснить».
Малинин ничего не понял. И это было хорошо. В нашем деле чем меньше понимаешь, тем дольше живешь. А я, кажется, только что начал понимать слишком много. Я открыл дневник снова. На форзаце рукой Арсентьева был выведен эпиграф. Цитата из Парацельса на латыни.
«Sola dosis facit venenum».
«Только доза делает яд ядом».
Я захлопнул дневник. Машина тронулась, увозя меня прочь от этого островка света, обратно в серую морось, в мир, где кто-то уже отмерял смертельную дозу этого нового яда. И я понятия не имел, кто держит в руках склянку.
Танец теней на сером бетоне подпольного цеха
Ночь вцепилась в Москву мертвой хваткой. Машину вел Малинин. Молча. Его правильный профиль, высеченный из гранита комсомольских идеалов, отражался в боковом стекле, накладываясь на смазанные огни проспекта. Он вел «Волгу» так, как, должно быть, жил: ровно, уверенно, строго по правилам, не срезая углов и не превышая скорости. Даже сейчас, когда мы неслись прочь от единственного островка света, который я видел за последние дни, он оставался механизмом, деталью системы. Идеальным контролером.
Дневник Арсентьева лежал у меня на коленях. Тяжелый, пахнущий старой кожей и пылью веков. Его вес был несоизмерим с физической массой. Это был вес чужой души, полной еретических мыслей о мифах, создающих реальность. Я закрыл глаза, и перед внутренним взором встало лицо Анны. Усталое, с темными кругами под глазами, но с упрямым огнем в глубине. Она отдала мне самое ценное, поставив на кон свое доверие. Доверие не мне, Волкову, а тому сомневающемуся человеку, которого разглядела за казенной униформой моего взгляда. И этот груз был тяжелее любого служебного долга.
Слова Сыча в грохочущем тамбуре электрички все еще звенели в ушах. «Красный порошок… это землетрясение». Он был прав. Под серым асфальтом города шли тектонические сдвиги. Цеховики, воры, теневые дельцы – все они почувствовали толчки и теперь метались, как крысы перед наводнением, пытаясь первыми добраться до спасительной высоты. Или до источника катастрофы.
«Нам на Каланчевскую», – бросил я в тишину салона.
Малинин коротко кивнул, не задавая вопросов. Он был обучен не задавать вопросов. Он был обучен докладывать. Я почти физически ощущал, как каждое мое слово, каждый жест фильтруется его сознанием и готовится к превращению в сухие строки отчета для генерала Морозова.
«Остановишь у универмага», – добавил я. – «Подождешь. Минут двадцать».
Он снова кивнул. Я откинулся на сиденье и закурил. Горький дым «Беломора» был привычным ядом, противоядием от чужой идеальности. Малинин едва заметно поморщился, но окна не открыл. Дисциплина.
Мне нужен был не просто шум улиц, а конкретный адрес. Сыч дал мне направление, общую картину паники. Теперь требовалась карта минного поля. И у меня был один картограф. Старый, пропитой, давно списанный со всех счетов, но с памятью, цепкой, как репейник. Зотов. Бывший опер из Угрозы, которого вышвырнули за пьянку и слишком тесные связи с теми, кого он должен был сажать. Теперь он прозябал в какой-то захудалой конторе, охраняя склад с гнилой капустой, но его старые щупальца все еще проникали в самые темные щели московского дна.
Я вышел из машины в холодную морось. Площадь трех вокзалов была похожа на растревоженный муравейник. Люди, огни, гудки поездов, крики носильщиков – все смешивалось в единый гул, в котором тонули отдельные судьбы. Я прошел мимо универмага, свернул в грязный, плохо освещенный переулок. Нужная мне дверь была скрыта за мусорными баками. Подвальное помещение, где располагалась дешевая рюмочная с липкими столами и кислым запахом пролитого пива.
Зотов сидел в самом дальнем углу, за столиком, на котором стоял граненый стакан и сиротливый бутерброд с заветренной колбасой. Он постарел. Его лицо, некогда жесткое и волевое, оплыло, покрылось сетью багровых сосудов. Только глаза остались прежними – маленькие, колючие, как два осколка грязного льда. Он увидел меня и не удивился. Лишь чуть плотнее сжал губы.
Я сел напротив, положил на стол нераспечатанную бутылку «Столичной». Он посмотрел на бутылку, потом на меня.
«Пенсия у меня хорошая, майор», – прохрипел он.
«А здоровье – не очень», – ответил я. – «От паленой водки слепнут».
Он усмехнулся, обнажив редкие желтые зубы. «Смотря что приходится видеть. Иногда ослепнуть – лучший выход».
Я наклонился к нему. «Мне нужен один человек. Кличка – Химик. Работает на цеховиков. Варит какую-то дрянь. Не синьку, не наркоту. Что-то новое. Говорят, из редких компонентов. В последнее время сильно поднялся, ищет выходы на серьезных людей».
Зотов медленно перевел взгляд со стола на мое лицо. В его глазах мелькнул интерес. Профессиональный интерес охотника, который уже не может бегать, но все еще помнит запах дичи.
«Серьезные люди сейчас все ищут одно и то же», – сказал он тихо. – «Сказку про красного бычка. Думают, он им золотые яйца нести будет».
«Мне не нужна сказка. Мне нужен тот, кто ее рассказывает. Или пытается сделать былью».
Зотов взял бутылку, повертел в руках, разглядывая этикетку, словно это был редкий документ.
«Есть один такой… Алик Шнайдер. Когда-то в шарашке какой-то сидел, срок за хозяйственные преступления. Талантливый, говорят. Может из дерьма и палок собрать то, что потом рванет не хуже тротила. После отсидки прибился к люберецким. Они ему оборудовали лабораторию где-то в промзоне. Сначала варил им левый краситель для ткани, потом еще что-то. Тихий был, незаметный. А с месяц назад вдруг задергался. Начал тратить деньги, которых у него быть не должно. Снял девку из «Националя», купил финские шмотки. И начал искать покупателей на что-то очень… эксклюзивное. Говорят, образец показывал. Красный порошок».
Мои мышцы напряглись. Вот она, ниточка. Тонкая, грязная, но она вела прямо в сердце клубка.
«Где его нора?»
Зотов снова посмотрел на бутылку. «Это тебе дорого обойдется, майор. Не в водке дело. Этот ваш Химик… за ним теперь хвост длиннее, чем очередь за колбасой. И хвост этот из очень зубастых ребят. Кто первый доберется, тот и съест. Остальным – кости».
«Я не спрашиваю цену. Я спрашиваю адрес».
Он помолчал еще с минуту, словно взвешивая что-то на невидимых весах. Потом наклонился и прошептал несколько слов. Название промзоны на юге Москвы. Заброшенный цех бывшего химического комбината «Реактив».
«Там мертвая зона, – добавил он. – Десяток заводов стоят с пятидесятых годов. Охраны никакой. Идеальное место, чтобы спрятать и труп, и целое производство. Он обычно по ночам работает. Когда лишних глаз нет».
Я встал.
«Олег», – окликнул он меня. Я обернулся. – «Ты поосторожнее. Эта ваша красная хреновина… от нее уже смердит, как от чумного барака. Туда лучше не соваться».
«Я работаю ассенизатором, Зотов. Привык к запахам».
Я вышел, не оглядываясь, оставив его наедине с бутылкой водки и призраками его прошлого.
Когда я вернулся в машину, Малинин сидел в той же позе. Он посмотрел на меня, и в его взгляде читался немой вопрос, который устав запрещал ему задать.
«Поехали», – бросил я, закуривая новую папиросу. – «На юг. Будем смотреть танец теней».
Промзона встретила нас тишиной и ржавчиной. Комбинат «Реактив» был городом-призраком, памятником ушедшей эпохе индустриального энтузиазма. Гигантские корпуса цехов темнели на фоне низкого, свинцового неба. Разбитые окна, как пустые глазницы, смотрели на заросшие бурьяном подъездные пути. Ветер гулял в проржавевших конструкциях, и этот звук был похож на тяжелый вздох умирающего великана. Воздух был густым, пропитанным запахами гниющего металла, химической гари и сырой земли.
Мы оставили машину за пару кварталов, в лабиринте гаражных кооперативов. Дальше пошли пешком. Ночь была безлунной, и темнота казалась почти осязаемой. Мы двигались вдоль бетонного забора, увенчанного спиралями колючей проволоки. Местами плиты осыпались, и в проломах чернела территория мертвого завода.
«План объекта есть?» – шепотом спросил Малинин. От него пахло свежестью одеколона и казенной правотой.
«План простой, лейтенант. Ищем свет или дым. Находим источник. Дальше – по обстоятельствам».
«Без санкции на арест, без группы поддержки… Это нарушение всех инструкций, товарищ майор».
«Инструкции пишут для тех, кто сидит в кабинетах. Мы сидим в канаве. Здесь другие правила. Главное – не шуметь».
Я нашел то, что искал. Секция забора, подмытая дождями, накренилась, образовав узкую щель у самой земли. Пришлось ложиться на мокрую, холодную грязь и протискиваться внутрь. Малинин последовал за мной без колебаний, но я слышал, как он с досадой отряхивает идеально вычищенную шинель.
Территория комбината была похожа на съемочную площадку фильма о конце света. Мы крались в тени гигантских цистерн, переступая через ржавые рельсы, уходящие в никуда. Тишина давила. Ее нарушал только скрип металла под порывами ветра и далекий лай собак.
Нужный нам цех стоял в глубине территории. Длинное, приземистое здание из серого бетона. Большинство окон были забиты листами фанеры, но в трех, на втором этаже, тускло мерцал свет. Неяркий, желтоватый, словно от обычных ламп накаливания. И от тонкой трубы на крыше вился едва заметный дымок, который ветер тут же рвал на клочки.
«Они там», – прошептал я. – «Я иду к главному входу, отвлеку. Ты – по пожарной лестнице с той стороны. Окна. Твоя задача – отрезать пути к отходу. И не геройствовать. Просто блокировать».
«А ваша, товарищ майор?»
«Моя задача – войти и поговорить».
Он посмотрел на меня с сомнением, но приказ есть приказ. Бесшумно растворился в темноте. Я видел в нем себя двадцать лет назад. Та же вера в то, что мир делится на черное и белое, на устав и его нарушение. Он еще не знал, что самые страшные вещи происходят в серой зоне, где нет никаких правил.
Я подождал несколько минут, давая ему время занять позицию. Потом медленно двинулся к главному входу. Массивные железные ворота были заперты на амбарный замок, но рядом была небольшая дверь для персонала. Она оказалась незапертой. Просто прикрытой. Дилетантство. Или ловушка.
Я вытащил пистолет. Холодная тяжесть рукояти в ладони придавала уверенности. Медленно, стараясь не издать ни звука, я приоткрыл дверь. Внутри пахло озоном, кислотой и чем-то сладковатым, тошнотворным. Коридор был погружен в полумрак. Впереди виднелся тусклый свет, падающий из дверного проема. Оттуда же доносились приглушенные голоса.
Я двинулся вперед, прижимаясь к шершавой бетонной стене. Шаги тонули в слое пыли и мусора. Голоса стали громче. Говорили двое.
«…он сам не знает, что у него в руках. Думает, это просто ключ к бабкам. Идиот». Голос был хриплым, прокуренным.
«Главное, чтобы Гвоздь не прочухал раньше времени. Он таких химиков вместе с колбами съедает и не морщится». Второй голос был моложе, с визгливыми нотками.
«Гвоздь далеко. А покупатель здесь. Через два дня он привезет остаток суммы, мы ему – товар. И все. Испания, белые штаны, океан…»
Я заглянул в проем. Это был огромный цех. Высокие потолки терялись во мраке, откуда свисали цепи и крюки давно демонтированных кранов. В центре, на пятачке, освещенном несколькими лампами на проводах-времянкках, была оборудована лаборатория. Столы, заставленные колбами, ретортами, змеевиками. Какие-то агрегаты, собранные из частей заводского оборудования, гудели и булькали.
Людей было трое. Двое сидели за столом и играли в карты. Крепкие ребята в спортивных костюмах, типичные «быки» из люберецких. Третий, спиной ко мне, стоял у одного из работающих аппаратов. Худощавый, сутулый, в очках и грязном белом халате. Химик.
В этот момент под моей ногой хрустнул осколок стекла. Звук показался оглушительным в напряженной тишине.
Игроки мгновенно вскочили, опрокинув стол. У одного в руке блеснул нож, другой выхватил из-за пояса обрез. Химик резко обернулся. Его лицо было бледным, испуганным, с бегающими глазами.
«Стоять! КГБ!» – крикнул я, выходя на свет. Это была стандартная процедура, рассчитанная на психологический эффект. Иногда срабатывало. Но не в этот раз.
Парень с обрезом выстрелил не раздумывая. Грохот выстрела ударил по ушам, эхом заметался под сводами цеха. Заряд дроби вспорол бетонную стену в полуметре от моей головы, осыпав меня крошкой.
Я упал на пол, перекатился за какое-то старое оборудование. Второй выстрел. Потом тишина. Они ждали.
Я услышал звон разбитого стекла со стороны окон. Малинин.
«Уходим! Валим через коллектор!» – заорал Химик, и в его голосе звучала паника.
Один из «быков» бросился к большому люку в полу цеха. Второй, с ножом, двинулся в мою сторону, прикрывая отход.
Я выстрелил дважды, целясь по ногам. Ножевик взвыл, схватился за бедро и рухнул на бетон.
Второй уже поднял тяжелую крышку люка. Химик, схватив со стола небольшой металлический контейнер, нырнул в черное отверстие. Его охранник с обрезом последовал за ним.
Я вскочил и бросился к люку, но было поздно. Последний из них уже скрылся внизу, и я успел лишь увидеть, как массивная крышка с грохотом встает на место.
В цех через разбитое окно впрыгнул Малинин. Он подбежал ко мне, сжимая пистолет в обеих руках.
«Они ушли. Под землей», – сказал я, тяжело дыша. – «Их было трое. Один ранен».
Малинин посмотрел на стонущего на полу бандита, потом на люк. На его лице было написано разочарование. Главная цель ускользнула.
Я подошел к раненому. Он смотрел на меня с ненавистью и болью.
«Где он хранит остальное?» – спросил я, надавливая носком ботинка на простреленную ногу.