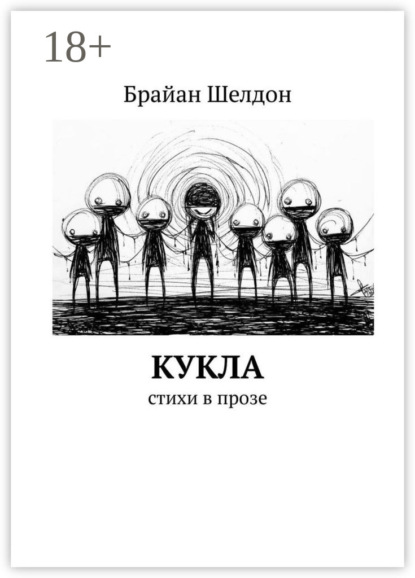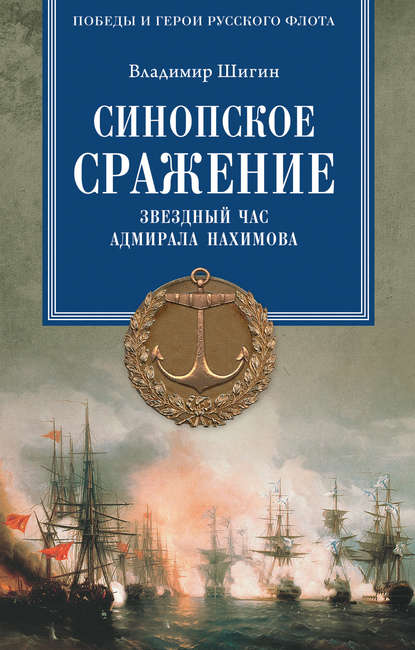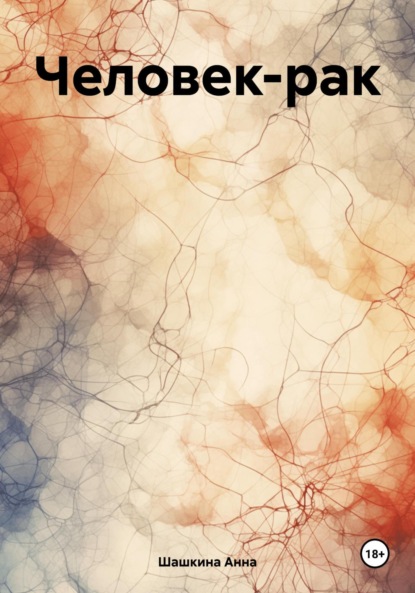Лесная переправа

- -
- 100%
- +

Первый снег, первая кровь
Первый снег в том году выпал рано, в самом начале ноября, и был он не праздничным, не сухим и скрипучим, а мокрым, тяжелым, словно пропитанным вселенской тоской. Он ложился на не успевшую промерзнуть землю, на черную хвою и прелую рыжину папоротников, превращая лесные дороги в вязкое, чавкающее месиво. Воздух, густой от влаги и запаха гниющей листвы, казалось, можно было резать ножом. Именно в таком воздухе, в такой тишине, нарушаемой лишь редким криком ворона да собственным сиплым дыханием, Прокопий и Митька, два бобыля из пригородной слободки, наткнулись на него.
Они шли по заячьему следу, но зверь словно растворился, и теперь они просто брели к реке, надеясь высмотреть утиную стаю. Лес стоял молчаливый, враждебный. Еловые лапы, отяжелевшие от налипшего снега, сгибались до самой земли, образуя темные, сырые своды. И под одним из таких сводов, в неглубокой лощине, куда не добирался ветер, они его и увидели. Митька, что шел первым, замер так резко, будто врос сапогами в мох. Прокопий, наткнувшись на его спину, чертыхнулся, но тут же осекся, проследив за взглядом товарища.
Это не было похоже на смерть от несчастного случая. Не пьяный, замерзший по дороге из города. Не жертва разбойников. Лежащий на тщательно уложенном, девственно-чистом еловом лапнике человек выглядел так, словно его приготовили к какому-то обряду. Молодой, лет двадцати пяти, с аккуратно подстриженными русыми усиками и тонким, почти благородным лицом. Городской. На нем была добротная суконная пара, не порванная, не испачканная. Руки, в тонких перчатках, были сложены на груди. Глаза закрыты, будто он спал. Только восковая бледность кожи и неестественный, застывший покой выдавали правду. Прокопий, перекрестившись, сделал несколько шагов ближе. Снег вокруг тела был нетронут. Ни следов борьбы, ни чужих отпечатков. Словно его принесли сюда по воздуху и бережно уложили.
– Гляди-ка, – просипел Митька, указывая трясущимся пальцем.
На шее покойного, чуть ниже кадыка, где белоснежный воротничок рубашки расходился, темнело пятно. Не рваная рана, не синяк. Аккуратное, почти хирургическое отверстие, из которого вытекло совсем немного крови, застыв накрахмаленной ткани крошечной черной коралловой веткой.
Егор Ильич Ладожский сошел с поезда в губернском центре и еще полдня трясся в пролетке, а затем в санях по раскисшей дороге, прежде чем добраться до Ветрова. Он чувствовал, как холод пробирается сквозь шинель, как сырость оседает в легких. Север встретил его неласково, словно знал, за что его сюда сослали из Петербурга, и одобрял это наказание. Ветров показался ему сборищем почерневших от времени изб и нескольких каменных домов, сгрудившихся вокруг непропорционально большой церкви. Окна смотрели слепо, из труб тянулся жидкий дым. Город молчал.
Урядник, встретивший его, был низеньким, красноносым и суетливым. Он говорил много, но бестолково, постоянно повторяя, что это, без сомнения, дело рук смутьянов, этих самых, как их, революционеров. «Акция устрашения, ваше высокоблагородие. Игнат Мухин, покойничек-то, в конторе у купца Савельева служил, а Савельев наш – первейший благодетель, на нужды армии жертвовал. Вот они и показали свою силу, анархисты проклятые».
Ладожский слушал вполуха, разглядывая облупившуюся штукатурку в здании управления. Факты. Ему нужны были факты, а не досужие домыслы перепуганного чиновника. Игнат Мухин. Писарь. Двадцать шесть лет. Найден в лесу. Убит. Все остальное – словесная шелуха. Он устал от слов еще в столице. Там слова убивали карьеры, репутации, а иногда и людей, куда надежнее пули.
– Врач осмотрел? – прервал он урядника.
– Так точно. Павел Андреич Баспин, земский наш лекарь. Человек ученый, из столиц тоже. Говорят, светило. Он сейчас в больнице, у себя. С телом.
Больница оказалась единственным новым зданием в городе – крепкий сруб, пахнущий свежей смолой, карболкой и безнадежностью. Внутри было холодно и гулко. В маленькой пристройке, служившей моргом, на грубо сколоченном столе, прикрытое серой холстиной, лежало то, ради чего Ладожский проделал этот путь.
Рядом со столом стоял человек в белом халате, слишком длинном для его худощавой фигуры. Павел Андреевич Баспин. Ладожский сразу отметил тонкие, нервные пальцы, аккуратную бородку, пенсне на высоком лбу. Интеллигент. Идеалист. Из тех, кто верит в просвещение и человеческий разум. Ладожский таких встречал. Они быстро ломались, столкнувшись с реальностью.
– Ладожский. Губернское жандармское управление, – представился он сухо, не протягивая руки.
– Баспин, – врач кивнул, поправляя пенсне. Его голос был мягким, но в нем слышались стальные нотки. – Я ждал вас.
Он откинул холстину. Ладожский смотрел на покойника. Все так, как описывали охотники. Поза. Одежда. Отсутствие следов. Он наклонился ниже, рассматривая рану.
– Удар нанесен сверху вниз, под левую ключицу, – начал Баспин ровным, почти лекторским тоном. – Клинок прошел между ребрами, не задев кости, и поразил непосредственно верхушку легкого и подключичную артерию. Смерть наступила в течение минуты от внутреннего кровотечения и пневмоторакса.
Ладожский молчал, впитывая информацию. Профессионал. Не просто убийца, а человек, знающий анатомию. Или обладающий чудовищной интуицией.
– Орудие? – спросил он, не отрывая взгляда от раны.
– Что-то длинное, узкое, обоюдоострое. Возможно, стилет. Или заточенный особым образом охотничий нож. Ширина лезвия не более полутора сантиметров. Глубина раны – около двенадцати. Удар был один. Исключительно точный.
Баспин говорил как ученый, констатирующий результат эксперимента. Но Ладожский видел, как напряжены его плечи, как подрагивают пальцы, когда он указывает на рану. Врач был потрясен не самим фактом смерти – к ней он привык, – а ее методичностью. Холодной, выверенной жестокостью.
– Никаких других повреждений, – продолжал Баспин, переходя на более тихий, почти личный тон. – Ни синяков, ни ссадин. Его не тащили, не били. Я осматривал его одежду – на ней нет ни грязи, ни хвои, кроме той, что на спине. Это значит, что лапник подложили уже под мертвое тело. Или… или он умер прямо на нем. Но тогда где следы убийцы?
Ладожский выпрямился. Он посмотрел на врача. Взгляды их встретились. В серых, усталых глазах следователя плескался холодный цинизм опыта. В карих глазах доктора, увеличенных стеклами пенсне, – тревога и смятение разума, столкнувшегося с иррациональным.
– Революционеры не работают так, доктор, – произнес Ладожский глухо. – Их почерк – бомба, револьвер. Шум, паника, кровь для острастки. А это… это тишина. Почти благоговение. Кто-то не просто убил его. Кто-то проводил его в последний путь.
Баспин снял пенсне и протер стекла чистым платком. Без них его лицо стало беззащитным и молодым.
– Вы правы. Это не похоже на политику. Это похоже на… на мессу. Черную мессу. Человек, сделавший это, не испытывал ненависти в привычном нам понимании. Он испытывал… чувство долга. Словно выполнял предначертанное.
Слово «долг» повисло в ледяном воздухе морга. Ладожский почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок, не имеющий отношения к температуре в помещении. Он видел сотни убитых. Жертв грабежа, пьяной поножовщины, страсти, мести. Их тела кричали о том, что с ними сделали. Это тело молчало. Оно хранило тайну, и тайна эта была куда страшнее простого убийства.
Остаток дня Ладожский провел в допросах, которые ничего не дали. Он говорил с купцом Савельевым, тучным, напуганным человеком, который потел даже на морозе и твердил про происки конкурентов и смутьянов. Говорил с родителями Мухина – убитыми горем стариками, не понимающими, за что их тихого, непьющего сына постигла такая участь. Говорил с сослуживцами, соседями. И натыкался на стену. Стену страха, недоверия и упрямого молчания. Люди отводили глаза, бормотали что-то о лихих временах, крестились и спешили уйти. Ветров не хотел говорить. Город словно набрал в рот ледяной воды из реки Ветлянки.
Вечером, сидя в промозглом номере единственной в городе гостиницы «Север», Ладожский раскладывал на столе свои скудные записи. Мухин Игнат. Не имел врагов. Не имел долгов. Не был замечен в любовных связях. В день смерти получил жалованье, которое осталось при нем, в кармане жилета. Мотив отсутствовал. Улики отсутствовали. Было только тело, аккуратно уложенное в лесу, и один точный, смертельный удар.
Он подошел к окну. Снег повалил гуще, белыми, липкими хлопьями. Он уже не таял, а ложился на землю плотным саваном, укрывая грязь, укрывая следы, укрывая тайны. Ветер завывал в печной трубе, и в этом вое Ладожскому чудился то ли плач, то ли чей-то безмолвный крик. Он вспомнил глаза Баспина. В них был научный интерес, смешанный с ужасом. Врач пытался понять, как это сделано. А Ладожского мучил другой вопрос, куда более важный: зачем?
Зачем эта ритуальная точность? Зачем это жуткое убранство из еловых веток? Зачем эта тишина?
Внезапно в памяти всплыл образ из петербургского прошлого. Маленькая девочка в кружевном платье, лежащая у подножия лестницы в богатом особняке. И лицо ее отца, влиятельного вельможи, который смотрел на Ладожского с холодным презрением. Дело закрыли как несчастный случай. А он знал, он был уверен, что это не так. Но у него не было доказательств. Только факты, которые ни во что не складывались. И ощущение чудовищной, безнаказанной лжи.
Он с силой потер виски. То дело сломало его. Оно выжгло в нем веру в закон, оставив лишь горький пепел профессионального долга. И вот теперь, в этой богом забытой глуши, он снова столкнулся с чем-то подобным. С преступлением, которое было больше, чем просто преступление. Оно было посланием. Только вот кому оно адресовано и что в нем сказано, он пока не понимал.
В ту же ночь Павел Баспин не мог уснуть. Он сидел у себя в кабинете, в небольшом домике при больнице, окруженный книгами. Везалий, Пирогов, Сеченов – его боги, его учителя – молчаливо взирали на него с полок. Он пытался читать, но строчки расплывались перед глазами. Перед внутренним взором стояла картина из морга. Идеально ровные края раны. Точность, достойная лучшего хирурга. И холод. Не физический холод мертвой плоти, а метафизический холод, исходивший от самого деяния.
Он, человек науки, веривший в то, что всякое явление имеет рациональное объяснение, будь то лихорадка или помрачение ума, сейчас чувствовал себя дикарем перед лицом неведомого божества. Психопатия? Мания? Ни один из известных ему терминов не подходил для описания той ледяной, осмысленной воли, что стояла за этим убийством. Убийца не был безумцем, теряющим контроль. Напротив, он обладал абсолютным контролем. Над собой, над своим оружием, над своей жертвой.
Баспин подошел к окну. Снег валил стеной, пожирая очертания домов, деревьев, самого мира. Ветров погружался в белую мглу, отрезаемый от всего света. И в этой вьюжной круговерти ему вдруг почудилось, что это не снег. Это время заметает следы. Пятнадцать лет. Двадцать. Время ничего не лечит. Оно лишь укрывает гниль тонким слоем чистого снега, чтобы однажды, когда подует сильный ветер, все тайное снова вышло на поверхность.
Он не знал, почему подумал об этом. Это было иррационально, не по-научному. Но ощущение того, что найденный в лесу писарь – не начало, а лишь эхо чего-то давнего, страшного и всеми забытого, впилось в его сознание, как хирургическая игла, и не отпускало.
А в лесу, в нескольких верстах от города, снег укрывал следы охотников, примятый мох и тот самый еловый лапник, на котором еще несколько часов назад лежало тело. Лес принимал снег в себя, в свою темную, вековую утробу, и молчал. Он умел хранить тайны. Он помнил все. И он ждал. Ведь это было только начало. Первое имя в списке. Первый выплаченный долг.
Шепот в морге
Утром морг встретил Баспина тишиной, которая была плотнее и тяжелее вчерашней. Ночная вьюга стихла, и теперь в маленькое, затянутое инеем оконце пробивался скудный, серый свет, похожий на разбавленное молоко. Он ложился на оцинкованный стол, на тело под холстиной, на холодный кафельный пол, делая все предметы плоскими, лишенными объема. Воздух, застывший и неподвижный, был пропитан сложным, тревожащим обоняние букетом: острая вонь карболки, сладковатый, тошнотворный дух формалина и едва уловимый, въедливый запах остановившейся жизни. Павел Андреевич зажег большую керосиновую лампу. Ее живое, теплое пламя заплясало на стенах, отбрасывая дрожащие тени, и мир морга тотчас обрел глубину и зловещую театральность.
Он работал медленно, методично, как привык. Работа успокаивала, вносила в хаос смерти строгий порядок науки. Голые по локоть руки в резиновых перчатках, блеск никелированных инструментов, аккуратные записи в амбарной книге – все это было его крепостью, его способом смотреть в лицо бездне, не позволяя ей поглотить себя. Но сегодня привычный ритуал давал сбой. Сняв с Игната Мухина одежду и уложив ее на отдельный стол для следователя, он остался наедине с холодной, белой плотью. И чем дольше он смотрел на это юное, еще не тронутое тленом тело, тем сильнее его охватывало чувство, далекое от профессиональной отстраненности. Это было не просто исследование, а чтение. Чтение страшного, написанного на человеческой коже манускрипта.
Главная фраза этого текста, его альфа и омега, находилась под левой ключицей. Баспин склонился над раной, вооружившись лупой. Края были идеально ровные, без малейших зазубрин или разрывов. Никаких следов колебания руки, никакой судорожной ярости. Это был не удар, а укол. Не акт агрессии, а исполнение. Он взял тонкий зонд и осторожно ввел его в раневой канал. Инструмент ушел вглубь плавно, без сопротивления, словно по заранее проложенному пути. Угол вхождения был безупречен. Убийца не просто знал, где находятся жизненно важные артерии; он чувствовал их, видел сквозь кожу и мышцы, как на анатомическом плакате.
«Словно хирург, удаляющий опухоль», – подумал Баспин, и от этой мысли по спине пробежал холодок. Он видел работу пьяных дровосеков с топорами, видел раны от финских ножей после кабацких драк, видел следы удушения и ударов оглоблей. Все это было грубо, зримо, понятно в своей животной свирепости. Зло имело лицо – перекошенное яростью, искаженное жадностью. Но здесь… здесь лица не было. Была лишь бесстрастная, ледяная воля и совершенное знание. Это пугало больше всего. Безумец рвет и кромсает. Этот же – творил. Создавал свою мрачную геометрию смерти.
Он приступил к вскрытию. Скальпель в его руке казался грубым, топорным инструментом по сравнению с тем, что оставил неведомый убийца. Внутреннее исследование лишь подтвердило его догадки. Грудная полость была заполнена кровью. Легкое спалось, пробитое насквозь. Подключичная артерия и вена были пересечены одним движением. Чистая работа. Смерть почти мгновенная, тихая, без агонии и криков. Жертва, возможно, даже не успела понять, что произошло. Просто толчок в плечо, короткое, ледяное прикосновее и – темнота.
Когда в морг вошел Ладожский, Баспин как раз заканчивал зашивать грудную клетку грубой бечевой. Следователь не поздоровался, лишь кивнул и остановился у стола с одеждой покойного. Его присутствие не нарушило, а лишь сгустило тишину. Он двигался экономно, почти бесшумно, словно большой серый кот, привыкший ступать по тонкому льду.
– Что-нибудь новое, доктор? – его голос был ровным, лишенным эмоций, как рапорт.
– Все то же, но в деталях, – Баспин стянул перчатки и вытер руки ветошью. – Убийца – не просто мясник с ножом. Он либо медик, либо охотник, который разделал не одну сотню туш. Он точно знал, куда направить клинок. И рука у него твердая, как у чертежника. Я бы сказал, это не убийство в состоянии аффекта. Это казнь.
Ладожский поднял пиджак Мухина. Проверил карманы. Бумажник с несколькими рублями. Носовой платок. Складной ножичек. Он разложил все на столе, создавая свой собственный, полицейский натюрморт.
– Казнь предполагает вину, – заметил он, не глядя на врача. – Какую вину мог иметь на себе двадцатишестилетний писарь?
– Об этом вам предстоит узнать, господин следователь. Моя задача – лишь прочесть то, что написано на теле. А на нем написано: «Убит профессионально, хладнокровно и с исключительной точностью». Это не почерк революционера-бомбиста. Это почерк палача.
Слово «палач» заставило Ладожского поднять взгляд. В серых глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. Он ценил точность формулировок.
– Палач исполняет приговор. Кто же тогда судья? – спросил он тихо, словно у самого себя.
Баспин не ответил. Он смотрел на тело, накрытое холстиной. Судья. В этом промерзшем городе, окутанном страхом, это был самый главный вопрос.
Допросы Ладожский начал с купца Савельева, в конторе которого служил убитый. Кабинет лесопромышленника был похож на берлогу разбогатевшего медведя: массивная дубовая мебель, персидский ковер на полу, чучело глухаря на стене. Сам Савельев, грузный, с багровым лицом и одышкой, источал запах дорогих сигар и страха. Он суетился, предлагал чаю, коньяку, но его глаза бегали, а пухлые пальцы с перстнями беспрестанно теребили тяжелую цепь от часов.
– Беспредел, ваше высокоблагородие, сущий беспредел! – вещал он, вытирая потный лоб батистовым платком. – Это они, смутьяны! Я на полковой храм жертвовал, государя императора портрет в каждой комнате имею! Вот и мстят, ироды! Хотят нас, людей дела, запугать, в трепет привести!
Ладожский сидел неподвижно, позволяя купцу выговориться. Он слушал не слова, а музыку, что стояла за ними. И в этой музыке главной нотой была фальшь. Савельев не просто предлагал версию – он навязывал ее, вцеплялся в нее, как утопающий в соломинку.
– Игнат Мухин состоял в какой-либо нелегальной организации? – прервал его следователь.
– Игнаша? – купец на миг запнулся. – Да что вы! Тишайший юноша! Мухи не обидит. Книжки читал, в церковь по воскресеньям ходил. Отцу с матерью подмога. Какие организации…
– Тогда почему он? Почему не вы, если это акция устрашения против вас?
Савельев вспотел еще сильнее. Его взгляд метнулся к двери, потом к окну.
– Так… для острастки! Показать, что они везде могут достать! Ударить по самому больному, по людям моим… Да, именно так!
«Врет», – констатировал про себя Ладожский. Врет неумело, панически. Страх его был подлинным, но причина этого страха была не в безликих революционерах. Причина была в чем-то другом, о чем купец молчал.
– Отец Мухина работал на вас? – сменил тему следователь.
– Работал, давно еще. Лет… пятнадцать-двадцать тому. Лес валили. Потом на покой ушел, хозяйством занялся. А я Игнашу его по старой памяти к себе взял. Парень толковый был…
Он снова завел шарманку про смутьянов. Ладожский больше не перебивал. Он смотрел на руки купца, на бисеринки пота на его лысине, на то, как он избегает смотреть в глаза. Он ушел, не узнав ничего нового, но с твердым ощущением, что Савельев знает больше, чем говорит. Знает и боится. Но боится не убийцы. Он боится прошлого.
Следующие допросы превратились в мучительное хождение по кругу. В трактире, где пахло кислой капустой и дешевой махоркой, на вопросы Ладожского отвечали мычанием и взглядами в пол. Люди словно глохли и немели при виде его мундира. Они обсуждали погоду, цены на овес, чью-то околевшую корову – что угодно, только не убийство. Имя Мухина заставляло их съеживаться, креститься и спешно вспоминать о неотложных делах.
Город жил двойной жизнью. Была жизнь внешняя, видимая – с урядником, лавками, церковной службой. А была внутренняя, скрытая, со своими законами, своими тайнами и своим судом. И в эту жизнь чужаку, человеку в форме, представляющему далекую и непонятную власть, входа не было. Ветров оберегал свой гнойник, свою застарелую болезнь, и не позволял скальпелю следователя прикоснуться к ней.
Урядник, Фома Захарович, в своем тесном кабинете, где пахло сургучом и мышами, лишь разводил руками.
– Народ темный, ваше высокоблагородие. Дикий. Леса боятся, лешего боятся, начальство боятся. Что с них взять? А я вам говорю – это политика. Из Архангельска нам уже циркуляр пришел: усилить надзор за неблагонадежными элементами. Тут у нас ссыльных несколько душ имеется, да на лесопилке рабочие бузят. Вот капитан Дымов из Охранки прибудет, он быстро порядок наведет. Найдет виновных, не сомневайтесь.
Ладожскому стало тошно. Он уже видел, как это будет. Показательные аресты, скорый суд, несколько человек отправятся в Сибирь «за участие в террористической ячейке». Дело будет закрыто, начальство довольно, урядник получит благодарность. А настоящий убийца останется там, в лесу, и будет ждать. Следователь чувствовал это почти физически. Это не было концом. Это была лишь пауза.
Вечером он снова пришел к Баспину. Не по делу, а просто потому, что врач был единственным человеком в этом городе, с которым можно было говорить. Единственным, кто не отводил глаза.
Кабинет доктора был островком цивилизации посреди дремучего хаоса. Ровные ряды книг, анатомические атласы на стенах, микроскоп под стеклянным колпаком. Здесь царил порядок, которому так отчаянно противился окружающий мир.
Баспин налил ему чаю. Горячая жидкость согревала замерзшие пальцы и душу.
– Стена, – сказал Ладожский, глядя на пляшущий в стакане огонек лампы. – Глухая, немая стена. Они все что-то знают. Или догадываются. Но молчат. И подсовывают мне эту чушь про революционеров.
– Люди всегда предпочитают простое и понятное объяснение, даже если оно ложное, – тихо ответил Баспин, поправляя пенсне. – Смутьяны, анархисты – это зло внешнее, пришлое. Его можно арестовать, сослать, и жизнь вернется в прежнее русло. Куда страшнее признать, что зло родилось здесь, среди них. Что оно ходит по тем же улицам, дышит тем же воздухом. Это значит, что мир не так прост и безопасен, как им хочется верить. Это подрывает самые основы их бытия.
– Они не просто боятся, доктор. Они – соучастники. Своим молчанием.
Павел Андреевич встал и подошел к окну. За стеклом кружились редкие, ленивые снежинки.
– Пятнадцать лет назад, когда я только приехал сюда, мой предшественник, старик Запольский, как-то сказал мне фразу, которую я тогда не понял. Он сказал: «Здесь, сынок, лечат не только травами, но и молчанием. Иногда молчание – самое сильное лекарство. А иногда – самый страшный яд». Кажется, я начинаю понимать, что он имел в виду. Этот город отравлен молчанием. И отрава эта действует уже очень давно.
Ладожский допил чай. Горечь на языке была не от крепкой заварки. Он встал, чтобы уйти. В дверях он обернулся.
– Вы сказали, отец Мухина работал на Савельева. Давно. Что еще они делали вместе?
Баспин пожал плечами.
– Я не знаю. Я здесь человек новый, всего несколько лет. Старожилы неразговорчивы. Но… есть архивы. В больнице, в управе. Старые, пыльные книги. Иногда в них можно найти больше, чем в разговорах с живыми людьми. Мертвые не умеют лгать.
Эта мысль показалась Ладожскому единственной здравой за весь этот бесконечный, пустой день. Мертвые не лгут. Игнат Мухин своим телом уже рассказал больше, чем весь этот город. Значит, нужно искать других мертвецов. Тех, чьи истории покрылись пылью в старых архивных папках.
Возвращаясь в свою промозглую гостиничную комнату, он смотрел на темные окна домов. За ними теплились огни, жили люди, говорили, ели, спали. Но для него это был уже не город, а единый, живой организм, хранящий в себе тайну. И он, Ладожский, был для этого организма чужеродным телом, вирусом, который тот пытался отторгнуть.
Он лег на жесткую кровать, не раздеваясь. Сон не шел. Перед глазами стояла рана на шее Мухина – аккуратная, точная, как росчерк пера под приговором. И он понял, что охотится не на одного убийцу. Он вступил в поединок с памятью целого города. И город этот не собирался сдаваться без боя. Он будет лгать, изворачиваться, прятаться за удобными версиями. Он будет защищать своего палача. Потому что, возможно, этот палач – и есть его совесть, его страшное, запоздалое правосудие. И от этой мысли становилось по-настоящему холодно. Холоднее, чем в неотапливаемом морге.
Второе имя в списке
Неделя прошла в тягучем, вязком оцепенении, похожем на замерзание. Город затаился. Страх оказался не крикливым, а тихим, внутренним. Он не выплескивался на улицах, а оседал в домах, за плотно закрытыми ставнями. Лавочники стали молчаливее, бабы на рынке крестились чаще, мужики в трактире пили угрюмо, без песен и драк. Смерть Игната Мухина превратилась из события в состояние, в новый состав воздуха, который все вдыхали. Ладожский чувствовал это кожей. Страх был физической субстанцией, он пропитывал сырые доски тротуаров, оседал инеем на бородах, делал голоса глухими. Каждый день следователь методично обходил Ветров, задавал одни и те же вопросы и получал одни и те же ответы, состоящие из пожатия плеч и отведенных в сторону глаз. Он был чужеродным телом, и организм города медленно, но верно пытался его вытолкнуть, изолировать своим коллективным молчанием.