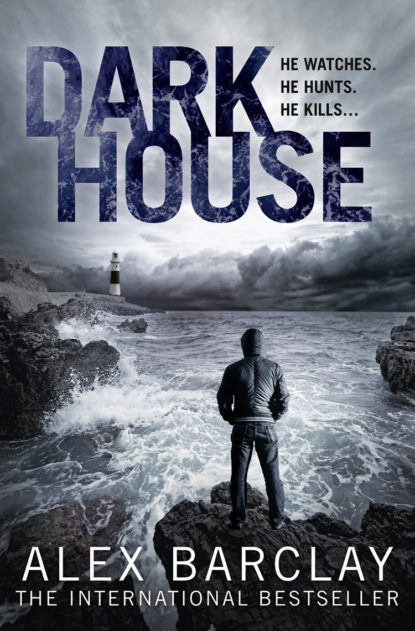Убийства в Департаменте полиции

- -
- 100%
- +

Холодный гранит Невы
Ноябрь вползал в Петербург незваным гостем, промозглым и серым, просачиваясь сквозь щели рам, оседая влажной пылью на подоконниках и ледяной тоской – в душах. Аркадий Петрович Вольский ощущал его присутствие физически, будто город выдыхал на него свой чахоточный, гнилостный дух. Пробуждение было похоже на медленное всплытие из вязкой, темной воды. За окном, в колодце двора, едва брезжил жидкий, немощный свет, не способный разогнать ночной мрак, а лишь разбавлявший его до цвета старого олова.
Он сидел за кухонным столом в своей квартире на Васильевском острове, машинально прихлебывая остывший чай. Керосиновая лампа на столе бросала на стену его тень – длинную, сутулую, двойника, который был честнее оригинала, не скрывая усталости. В этом утреннем ритуале была своя дисциплина, свой порядок, единственное, что еще подчинялось ему в мире, давно вышедшем из пазов. Завести часы-ходики. Протереть стекла пенсне. Развернуть свежий номер «Петербургского листка», вдохнув типографский запах свинца и тревожных новостей. Новости были все те же: стачки на заводах, новые указы Синода, очередной суд над анархистами. Система работала, перемалывая жизни с усердием громадного, ржавого механизма. Он был винтиком в этом механизме, и от этого осознания чай во рту становился еще горше.
Резкий, требовательный стук в дверь вырвал его из оцепенения. Так стучат либо с бедой, либо с приказом, что в его службе часто было одним и тем же. На пороге стоял молодой околоточный, запыхавшийся, с красным от мороза и спешки лицом. Он вытянулся в струнку, сжимая в руке фуражку.
– Ваше высокоблагородие, господин надворный советник! Генерал Хвостов требуют немедля в Департамент. Происшествие у нас… чрезвычайное.
Вольский молча кивнул, уже натягивая форменный сюртук. Он не задавал вопросов. Чрезвычайные происшествия были его ремеслом. Он лишь отметил про себя, что голос у юнца дрожал, а глаза бегали, словно у нашкодившего гимназиста. Страх. В здании на Гороховой, цитадели закона и порядка, страх был дурным предзнаменованием.
Пролетка, нанятая околоточным, неслась по пустынным утренним улицам, взбивая копытами ледяную грязь. Город еще не проснулся, он дремал, укутанный в саван тумана. Газовые рожки, словно умирающие светляки, цеплялись за жизнь, их свет тонул в белесой мгле, не достигая мостовой. Из тумана выплывали призрачные силуэты: Исаакий, похожий на громадный шлем забытого великана; темная громада Адмиралтейства. Петербург был городом-лабиринтом, построенным на костях и амбициях, и Вольский знал его темные углы лучше, чем собственную душу. Он знал, что туман – лучший союзник лжи, он скрывает уродство, размывает контуры, заставляет сомневаться в том, что видишь собственными глазами.
У подъезда Департамента полиции царило непривычное оживление. Несколько экипажей, кучка зевак, которых отгоняли городовые. Но главное было не это. Главным была тишина. Не обычная утренняя тишина, а напряженная, звенящая, как натянутая струна. Воздух был наэлектризован. Войдя в вестибюль, Вольский сразу понял: случилось нечто из ряда вон выходящее. Чиновники, обычно спешившие по своим делам с шорохом бумаг и скрипом сапог, сбились в группы по углам, перешептывались, бросая косые взгляды на внутренний двор. Лица у всех были бледными, растерянными. Эта картина была противоестественной. Сыщики, филеры, приставы – люди, для которых смерть и насилие были ежедневной рутиной, – выглядели так, будто увидели привидение.
Его встретил капитан Захар Белецкий, его правая рука. Крепкий, надежный, с простым и честным лицом, он был одним из немногих, кому Вольский доверял хотя бы отчасти.
– Аркадий Петрович, слава Богу, вы здесь. Генерал рвет и мечет.
– Что стряслось, Захар Игнатьич? – спросил Вольский, снимая перчатки.
Белецкий понизил голос, его ясные голубые глаза потемнели.
– Ляпунов. Ипполит Матвеевич. Из окна своего кабинета… Час назад.
Вольский замер. Ляпунов. Статский советник, начальник отдела по экономическим делам. Человек-футляр. Осторожный до трусости, педантичный до абсурда. Он боялся сквозняков, начальственного гнева и дурного глаза. Такой человек не способен на широкий, отчаянный жест. Он скорее удавился бы на шелковом шнурке от портьеры в полном уединении, чем устроил бы такое представление.
– Насмерть?
Белецкий мрачно кивнул в сторону двора.
– Доктор уже осмотрел. Говорит, падение с четвертого этажа шансов не оставляет.
Двор Департамента, вымощенный щербатым булыжником, был оцеплен. Под стеной, накрытое грубой серой парусиной, лежало то, что еще недавно было Ипполитом Матвеевичем Ляпуновым. Рядом топтался уездный врач с саквояжем и растерянным видом. Вольский не стал подходить. Он видел достаточно мертвецов, чтобы знать – они уже ничего не расскажут. Рассказывают живые. И вещи. Он поднял голову. Четыре этажа серого казенного фасада. Одно окно распахнуто настежь, черным провалом зияя в монотонной стене. Оно походило на кричащий рот.
Кабинет Ляпунова был наводнен людьми. В центре, багровый от гнева и с трудом сдерживаемой паники, стоял генерал-майор Афанасий Валерьянович Хвостов. Его зычный голос, привыкший отдавать команды на плацу, сейчас гремел в замкнутом пространстве, сотрясая пылинки в воздухе.
– …чтобы к полудню дело было закрыто! Самоубийство! Ясно вам? Несчастный запутался в долгах, не вынес позора! Никаких домыслов, никаких сплетен! Департамент полиции – не балаган!
Увидев Вольского, он немного остыл, но лицо его по-прежнему напоминало свеклу.
– А, Вольский. Наконец-то. Полюбуйтесь на это безобразие. Прямо у меня под носом! Опозорил весь мундир.
Он ткнул толстым пальцем в сторону стола.
– Вот. Записка. Все объясняет.
Вольский подошел к массивному дубовому столу. На нем, под бронзовым пресс-папье в виде двуглавого орла, лежал лист гербовой бумаги. Аккуратным, бисерным почерком Ляпунова было выведено: «Более не могу нести бремя позора и долгов. Прошу никого не винить. Простите, если сможете». Подпись, дата. Все чисто, гладко, правильно. Слишком правильно.
– Долги? – тихо спросил Вольский, не отрывая взгляда от записки.
– Игорные! – рявкнул Хвостов. – Просадил в клубе все состояние, казенные деньги прихватил, вот и конец! Обычная история. Грязно, но понятно. Доктор, подтвердите!
Врач, невысокий господин в очках, вздрогнул.
– При первичном осмотре, ваше превосходительство, признаки насильственной смерти отсутствуют. Травмы характерны для падения с большой высоты. Окончательное заключение даст вскрытие, но… версия о самоубийстве представляется наиболее вероятной.
Хвостов удовлетворенно хмыкнул. Для него дело было кончено. Оставалось лишь замести мусор под ковер. Но Вольский не слушал. Его взгляд, цепкий, привыкший замечать то, что другие упускали, скользил по комнате, впитывая детали.
Он подошел к окну. Ноябрьский ветер врывался в кабинет, шевелил бумаги на столе, холодил лицо. Створка была распахнута до упора. Странно. Ляпунов, панически боявшийся простуды, никогда бы не открыл так окно в такую погоду. Даже для того, чтобы сделать последний шаг. Человек в его состоянии скорее приоткрыл бы форточку.
Вольский наклонился, внимательно осматривая подоконник. Дерево, крашенное много лет назад, было покрыто слоем пыли и копоти. И на этой пыли, у самого края, виднелась тонкая, едва заметная царапина. Свежая. Будто от каблука сапога, который проехался по поверхности с силой. Не след того, кто шагнул сам, а того, кого тащили. Или того, кто упирался.
Он выпрямился, вернулся к столу. Его взгляд упал на чернильницу. Дорогая, из малахита, подарок сослуживцев на юбилей. Она была опрокинута. Темное пятно медленно расползалось по зеленому сукну, как уродливая клякса на репутации Департамента. Но вот что было странно: предсмертная записка, лежавшая всего в нескольких дюймах от кляксы, была абсолютно чистой. Ни единого пятнышка, ни одной смазанной буквы. Словно чернильницу опрокинули уже после того, Rак записка была написана и убрана под пресс-папье.
Мелочи. Незначительные детали, которые не укладывались в гладкую, удобную версию генерала Хвостова. Мир Вольского состоял из таких мелочей. Он знал, что дьявол, как и истина, всегда кроется в них.
– Ваше превосходительство, – ровным голосом произнес он, поворачиваясь к Хвостову. – Позвольте задать несколько вопросов.
Генерал нахмурился, его бакенбарды недовольно топорщились.
– Какие еще вопросы, Вольский? Все ясно как Божий день!
– Я знал Ипполита Матвеевича, – не отступал Вольский. – Он был человеком привычки. Осторожным. Даже трусливым. Это не его почерк.
– Почерк?! – взревел Хвостов. – У него на столе записка его почерком! Что тебе еще нужно?
– В записке нет ни единой помарки. А чернильница опрокинута. Он написал, аккуратно промокнул песком, убрал под пресс-папье, а потом вдруг решил разлить чернила? Зачем? – Вольский сделал паузу, давая словам впитаться в сознание присутствующих. – И окно. Оно распахнуто. Ипполит Матвеевич скорее бы задохнулся, чем впустил в кабинет ноябрьский ветер.
В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь воем ветра за окном. Хвостов побагровел еще сильнее. Он не любил, когда его простые и понятные решения ставили под сомнение. Особенно когда это делал Вольский, с его тихим голосом и колючим взглядом, который, казалось, видел генерала насквозь, со всеми его слабостями и тайными грешками.
– Это все домыслы, надворный советник! – прошипел он. – Ты видишь заговоры там, где их нет. Человек на грани смерти непредсказуем! Может, он хотел воздуха перед прыжком!
– Возможно, – спокойно согласился Вольский. – А возможно, в кабинете был кто-то еще. Кто-то, кто помог ему сделать этот шаг.
Последние слова он произнес почти шепотом, но они прозвучали в комнате как выстрел. Лица чиновников вытянулись. Хвостов понял, что замять дело тихо уже не получится. Слишком много свидетелей слышали этот разговор.
– Хорошо, – процедил он сквозь зубы, отводя Вольского в сторону. – Хорошо. Действуй. Но тихо. Без шума. Опроси кого сочтешь нужным. Но чтобы к вечеру у меня на столе лежал рапорт, подтверждающий самоубийство. Мне не нужен скандал. Особенно сейчас. Ты меня понял, Аркадий Петрович?
Вольский смотрел на генерала. Он видел не заботу о чести мундира. Он видел страх. Страх за собственное кресло, за теплое место, за налаженную жизнь. И Вольский понял, что правды от начальства он не дождется. Если здесь и была тайна, ему придется разгадывать ее в одиночку.
– Я вас понял, ваше превосходительство, – сухо ответил он.
Когда кабинет опустел, и лишь Белецкий остался стоять у двери, Вольский начал свою работу. Он двигался по комнате медленно, методично, как хирург, препарирующий тело в анатомическом театре. Он не просто смотрел, он вдыхал запахи, вслушивался в тишину, ощупывал поверхности. Воздух пах холодом, сургучом, пылью и едва уловимым, сладковатым запахом валериановых капель. Ляпунов успокаивал нервы.
Он подошел к книжному шкафу. Все в идеальном порядке. Полное собрание законов Российской империи. Уставы. Циркуляры. Ничего личного, ничего человеческого. Только служба. На краю полки стояла фотография в серебряной рамке: полная, безликая женщина, очевидно, покойная супруга Ляпунова. Вольский взял рамку. Стекло было холодным. Он провел пальцем по обратной стороне. Что-то зацепилось за ноготь. Он поднес рамку к свету. В щель между картонной задней стенкой и рамкой была засунута крохотная, сложенная вчетверо бумажка. Квитанция из ломбарда. Заложена брошь с жемчугом, две недели назад. Сумма была смехотворной. Не той, из-за которой статские советники бросаются из окон.
– Захар Игнатьич, – позвал он. – Вы были дружны с покойным?
– Не то чтобы дружны, Аркадий Петрович. Так, по службе. Он был человек замкнутый, себе на уме. Но в последнее время казался особенно нервным, это правда. Все оглядывался, будто ждал кого-то.
– О долгах его слышали?
Белецкий нахмурился, вспоминая.
– Слухи ходили. Говорили, в Английском клубе его часто видели. Но чтобы до такой степени… Не верится. Он был слишком… расчетлив. Даже в своих пороках.
Вольский молчал, разглядывая царапину на подоконнике. Расчетливый человек. Да, именно таким он и был. И такой человек, запутавшись в долгах, скорее бы сбежал за границу с остатками казенных денег, чем шагнул в пустоту.
Он повернулся к Белецкому.
– Распорядитесь, чтобы никто не входил в этот кабинет. Опечатайте. Я хочу сам поговорить с его секретарем. И найдите мне все дела, над которыми Ляпунов работал в последний месяц. Все, до последней бумажки.
– Будет исполнено, ваше высокоблагородие.
Когда Белецкий ушел, Вольский еще на минуту задержался в кабинете. Он стоял у окна и смотрел вниз, во двор, где уже увозили тело. Город тонул в тумане. Серая, непроглядная мгла скрывала улицы, дома, людей. И здесь, в самом сердце правосудия, сгустился свой, особый туман. Туман лжи, страха и недомолвок. Официальное расследование еще не началось, а неофициальное, его собственное, уже завело его в тупик из противоречий. Он не знал, что именно ищет. Но он чувствовал это своим старым, израненным чутьем сыщика. Это была не просто смерть одного жалкого, запутавшегося чиновника. Это было начало. Первый камень, выбитый из основания серого, незыблемого здания на Гороховой. И Вольский понимал, что если потянуть за эту ниточку, может рухнуть вся стена.
Вторая свеча на поминальном столе
Ночь прошла в бумажном плену. Кабинет Вольского, тесная келья, заставленная шкафами с делами, превратился в поле битвы, где он в одиночку сражался с призраком Ипполита Ляпунова. Воздух пропитался запахом остывшего табака, сургуча и той особой архивной пыли, которая, казалось, была материализовавшимся временем. На столе высились стопки папок, донесений, финансовых отчетов – вся никчемная, скрупулезно задокументированная жизнь покойного статского советника. Вольский перебирал эти листы, испещренные каллиграфическим почерком, и не находил ничего. Ничего, кроме удушающей, стерильной пустоты. Жизнь Ляпунова была так же аккуратна и безлика, как его предсмертная записка. Долги были, но не катастрофические. Связи – да, но в пределах дозволенного чиновнику его ранга. Все нити обрывались, не успев сплестись в узор.
Он откинулся на спинку скрипучего кресла, потер воспаленные глаза. За окном Петербург все еще бился в агонии долгой, безрассветной ночи. Туман не рассеялся, он лишь уплотнился, превратившись в мокрую вату, что глушила звуки и мысли. Вольский чувствовал себя запертым в этом городе, в этом здании, в этом деле. Царапина на подоконнике, опрокинутая чернильница – эти мелкие, колючие факты не давали ему покоя, как камешки в сапоге. Они нарушали гармонию удобной версии генерала Хвостова, вносили диссонанс в похоронный марш, который начальство уже было готово сыграть. Он поднялся, подошел к окну. Внизу, во дворе, на месте, где утром лежало тело, темнело мокрое пятно. Его не смыл ни ночной дождь, ни старания дворника. Память места. Камни помнили дольше людей.
Утро не принесло облегчения. Оно ввалилось в Департамент с тем же серым, похмельным видом, что и накануне. Чиновники двигались по гулким коридорам медленнее обычного, их голоса были приглушены, словно в доме покойника. Разговоры велись шепотом, но взгляды были громче любых слов. Страх, подозрительность, нездоровое любопытство – эти три сестры-ведьмы поселились в стенах на Гороховой, и их невидимое присутствие ощущалось в каждом скрипе половиц, в каждом шорохе бумаг. Смерть Ляпунова перестала быть происшествием, она стала предзнаменованием.
Вольский сидел над планом здания, пытаясь восстановить последние часы жизни Ляпунова, когда дверь его кабинета распахнулась без стука. На пороге стоял юный письмоводитель из канцелярии, безусый мальчишка с глазами испуганной лани. Лицо его было цвета мокрого пергамента, губы дрожали, силясь вытолкнуть слова, застрявшие в горле костью.
– Ваше… ваше высокоблагородие… – пролепетал он, хватаясь за косяк. – Там… внизу…
Вольский поднялся, мгновенно ощутив, как ледяная игла вонзилась куда-то под ребра. Не предчувствие – знание. Черное, иррациональное знание того, что занавес поднят для второго акта трагедии.
– Где внизу? Говори толком!
– В архиве… в нижнем… Катин… Яков Фомич… он… он там… лежит… весь в крови…
Слова повисли в воздухе. В Департаменте наступила иная тишина. Не та, что бывает между ударами часов, а та, что приходит после того, как часы останавливаются навсегда. Новость не разнеслась криком, она поползла по коридорам ядовитым шепотом, отравляя воздух, проникая под двери кабинетов, замораживая улыбки на лицах. Паника была тихой, внутренней. Люди не бежали, не кричали. Они просто замирали на своих местах, и их глаза становились стеклянными. Два трупа за два дня. В цитадели имперского сыска. Это уже была не трагедия. Это было глумление.
Нижний архив был преисподней Департамента. Туда ссылали дела, утратившие актуальность, дела, которые следовало забыть. Десятилетия бумажной жизни империи гнили на стеллажах, уходивших в полумрак под низкими сводчатыми потолками. Воздух здесь был спертый, тяжелый, пахнущий мышами, тленом и холодной сыростью, идущей от каменных стен. Единственный свет давали редкие, забранные решетками оконца под самым потолком, но их мутные стекла едва пропускали скудный дневной свет, который тут же тонул в вековом сумраке.
В центре этого царства забвения, в узком проходе между стеллажами, лежало тело титулярного советника Якова Катина. Лежало неестественно, скорчившись, будто пытаясь защититься от удара, который уже настиг его. Вольский опустился на колено рядом. Катин, известный своей въедливостью и несносным характером, человек, который мог неделями искать пропавшую запятую в стостраничном рапорте, теперь лежал с проломленным черепом. Лицо его было залито кровью, застывшей темной, почти черной массой. Рядом с головой валялся тяжелый чугунный пресс для бумаг в виде грифона – обыденная канцелярская принадлежность, ставшая орудием жестокой расправы. Сомнений не было. Это было убийство. Дикое, яростное, совершенное в нескольких саженях от кабинетов, где вершился закон.
Вокруг уже суетились люди. Прибыл тот же уездный врач, еще более растерянный, чем накануне. Городовые неуклюже пытались что-то записывать в свои блокноты. Но Вольский не обращал на них внимания. Он осматривал место преступления своим особым, внутренним зрением. Он видел не тело и не лужу крови. Он искал аномалию, деталь, выпадающую из общей картины хаоса.
Папки на полу. Несколько дел были вытащены со стеллажа и разбросаны. Убийца что-то искал? Или это была инсценировка ограбления? Но что мог украсть вор в пыльном архиве? Секреты? В Департаменте знали, что самые страшные секреты хранятся не на бумаге, а в головах.
Его взгляд скользнул по полу, по грязным, истертым доскам. Бумажный сор, вековая пыль, мышиный помет. И среди этого хлама – что-то тускло блеснуло в слабом луче света от фонаря, который держал Белецкий. Что-то маленькое, круглое, серое.
Вольский осторожно, кончиками пальцев, поднял находку. Это была пуговица. Маленькая, оловянная, потемневшая от времени. На ее поверхности с трудом угадывались очертания двуглавого орла старого образца. Он повертел ее в пальцах. Пуговица была не с форменного сюртука. Мундир, к которому она могла принадлежать, был снят с вооружения лет пятнадцать, а то и двадцать назад. Такие носили еще в турецкую кампанию. Кто мог носить подобный антиквариат в стенах Департамента полиции в 1889 году?
И тут память, услужливая и жестокая, подбросила ему образ. Вчера. Кабинет Ляпунова. Тело, лежащее во дворе. Когда его переворачивали, из складки сюртука на мгновение выкатилось и тут же затерялось в пыли что-то похожее. Такое же серое, невзрачное. Тогда он не придал этому значения, списав на мусор, прилипший при падении. Но теперь эта деталь, эта ничтожная оловянная пуговица, вырастала в его сознании до размеров неопровержимой улики.
Две смерти. Две пуговицы. Это не могло быть совпадением. Это был знак. Подпись. Почерк убийцы.
– Аркадий Петрович? Вы что-то нашли? – голос Белецкого вырвал его из оцепенения.
Вольский разжал ладонь и показал ему пуговицу.
– Посмотрите, Захар Игнатьич. Что скажете?
Белецкий взял пуговицу, поднес ближе к фонарю. Его честное лицо выражало недоумение.
– Старая. Солдатская, похоже. Откуда она здесь? Может, Катин в кармане носил, как талисман?
– А может, ее обронил тот, кто проломил ему голову, – тихо сказал Вольский. – Тот же, кто вчера «помог» Ляпунову выйти в окно.
Белецкий замер, его голубые глаза расширились от внезапного понимания.
– Вы думаете… это связано?
– Я в этом уверен.
В этот момент в архив, кряхтя и отдуваясь, спустился генерал Хвостов. Его лицо было цвета грозовой тучи. Увидев тело, он не стал кричать. Он заговорил тихо, и от этого его голос казался еще более зловещим.
– Вольский. Доложите. Без экивоков.
– Убийство, ваше превосходительство. Яков Катин, титулярный советник. Убит ударом тяжелого предмета по голове. Предположительно, вот этим прессом.
Хвостов поморщился, словно от зубной боли.
– Причина? Мотив?
– Пока неясно. Возможно, убийца искал что-то в бумагах. Возможно, это личная месть. Катин был человеком сложным, врагов у него хватало.
Генерал промолчал, обводя архив тяжелым взглядом. Он выглядел как хозяин дома, который обнаружил, что в его подвале завелись не просто крысы, а волки.
– Перекрыть все входы и выходы, – наконец выдавил он. – Никого не впускать, никого не выпускать без моего личного приказа. Установить посты на всех этажах. Это… это карантин. Чума в нашем собственном доме.
Он повернулся к Вольскому, и в его глазах, обычно наглых и властных, промелькнул животный страх.
– Ты вчера говорил о заговорах, Вольский. Я счел это бредом. Но теперь… Теперь я уже ни в чем не уверен. Что ты думаешь? Только честно.
Вольский посмотрел на генерала, потом на Белецкого, потом на съежившихся в углу чиновников. Он медленно сжал в кулаке холодную оловянную пуговицу. Правда была проста, как удар ножа, и так же смертоносна. Произнести ее вслух означало выдернуть чеку из гранаты посреди порохового склада. Но молчать было уже нельзя.
Он шагнул ближе к Хвостову, понизив голос так, чтобы слышал только он.
– Я думаю, ваше превосходительство, что оба убийства – дело рук одного человека. Он действует расчетливо и хладнокровно. Он не оставляет следов, кроме тех, что хочет оставить. Он знает это здание как свои пять пальцев. Знает все входы, все выходы, все потайные коридоры. Он знает наше расписание, наши привычки, наши слабости. Он может проникнуть в кабинет начальника отдела на четвертом этаже и в запертый архив в подвале.
Вольский сделал паузу, вглядываясь в побагровевшее лицо генерала.
– Вчера я ошибся. Это не заговор. Это хуже. Это волк в овчарне. Убийца не пришел с улицы. Он все это время был здесь, среди нас. Он носит такой же мундир, как мы с вами. Он отдает нам честь в коридорах и, возможно, пьет с нами чай в буфете. Он – один из них.
Последние слова он произнес почти шепотом, но они ударили по Хвостову сильнее, чем любой крик. Генерал отшатнулся, его рука непроизвольно потянулась к эфесу парадной сабли, висевшей у него на поясе, – бесполезному, бутафорскому оружию против такого врага. Его лицо из багрового стало пепельным. Он смотрел на Вольского, но видел не его. Он видел сотни лиц своих подчиненных, и на каждом ему теперь мерещилась маска убийцы. Вся его власть, все его положение, вся незыблемость его мира рухнули в один миг, рассыпались в пыль здесь, в этом сыром, зловонном подвале.
– Не может быть… – прохрипел он. – Это… это абсурд! Мятеж!
– Это факт, ваше превосходительство, – ровным, безжалостным тоном заключил Вольский. – И пока мы не примем этот факт, будут новые свечи на поминальном столе. И никто из нас не знает, чье имя будет на следующей поминальной записке.
Круг подозреваемых
Слова генерала Хвостова упали в мертвую тишину архива не приказом, а проклятием. Карантин. Чума в нашем доме. Это слово, произнесенное вполголоса, обладало силой заклинания. Оно мгновенно изменило саму материю Департамента. Воздух загустел, коридоры, казалось, сузились. Массивное здание на Гороховой, этот каменный левиафан, замер, втянул в себя внешнюю жизнь и запер ее на все замки и засовы, оставшись наедине со своей болезнью.
Новость, переданная по внутреннему телеграфу и усиленная властным рыком дежурных офицеров, парализовала привычный ход службы. Грохот сапог по чугунным лестницам стих. Скрип перьев в канцеляриях оборвался на полуслове. Курьеры застыли с папками в руках, не зная, куда им теперь дозволено идти. Департамент превратился в стеклянную банку, в которую посадили потревоженный муравейник, а сверху плотно завинтили крышку. Внешне – та же иерархия, те же мундиры, те же чины. Но под этой застывшей поверхностью уже началось брожение. Вчерашние сослуживцы, делившие табак и служебные байки, теперь обменивались быстрыми, оценивающими взглядами. Каждое слово, сказанное громче шепота, заставляло оборачиваться. Каждая закрытая дверь кабинета теперь казалась заговором. Дружба стала роскошью, доверие – безрассудством. Паранойя, словно невидимые споры плесени, разносилась по коридорам сквозняками, оседая на душах липкой, холодной изморозью.