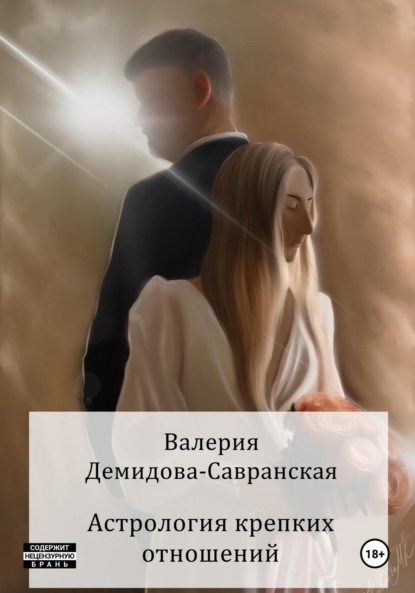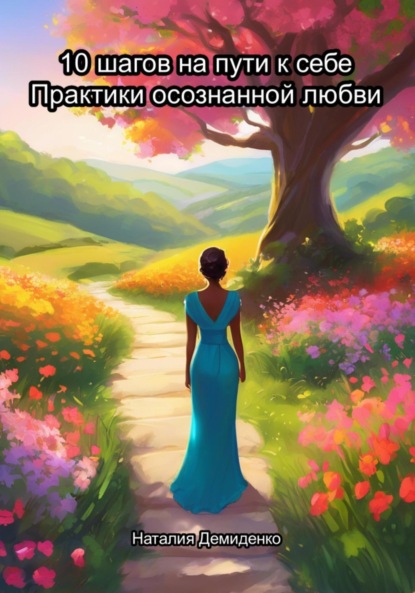Убийство в поезде на Москву

- -
- 100%
- +

Стальной змей в снежной пустыне
Стальной змей, выкованный на Путиловских заводах, сшивал раскаленной иглой локомотива два полотна – белое, бескрайнее, небесное, и черное, промерзшее, земное. Он полз, не зная усталости, сквозь ледяную плоть Российской империи, и единственным признаком его жизни был шлейф серого дыма, который вьюга тут же рвала в клочья и развеивала над стылыми полями. Внутри же этого змея, в его теплом, позолоченном чреве, время текло иначе – густо, лениво, словно теплый ликер в хрустальном бокале.
Константин Арсеньевич Воронцов сидел в своем купе первого класса, отгородившись от мира томиком Монтеня. Впрочем, книга была лишь предлогом, респектабельной ширмой, за которой можно было укрыть собственную опустошенность. Буквы плясали перед глазами, не складываясь в слова, ибо мысли его были заняты не размышлениями гасконского философа, а куда более прозаическими вещами: стуком колес, выбивавшим из памяти последние остатки петроградской суеты, и узорами мороза на стекле, напоминавшими замысловатую карту неведомой, холодной страны.
Ему было сорок восемь лет – возраст, когд а иллюзии уже рассеялись, а до старческого благодушия было еще далеко. Время оставило на его лице тонкую резьбу у глаз и в уголках губ, посеребрило виски и вложило в взгляд ту особую, тяжелую усталость, что не смывается сном, но въедается в кости, подобно ревматизму, от долгого пребывания в сырых казематах чужих судеб. Бывший судебный следователь по особо важным делам, он уже несколько лет как был вычеркнут из списков живых – по крайней мере, тех живых, что вершили, судили и правили. Громкое дело, где его понятие о справедливости вошло в неразрешимое противоречие с волей сильных мира сего, закончилось тихой отставкой. Теперь он был никто – частное лицо, путешествующее в Москву по делам наследства внезапно почившего троюродного дядюшки. Ирония судьбы, которую он ценил превыше прочих ее гримас, заключалась в том, что именно чужая смерть снова вырвала его из добровольного затворничества.
За окном, в синеватых сумерках январского дня, проносился пейзаж, написанный одной лишь белой краской. Деревни, присыпанные снегом по самые крыши, казались забытыми богом погостами. Телеграфные столбы, унизанные инеем, напоминали скорбные кресты, выстроившиеся вдоль железнодорожного полотна. Россия замерла, скованная морозом, и этот холод, казалось, проникал сквозь двойные рамы, пробирался под добротный твид его дорожного костюма, селился где-то глубоко внутри. Предчувствие. Вот слово, которое вертелось на языке. Оно витало в воздухе Петрограда, в очередях за хлебом, вполголоса произносилось в великосветских салонах и громко выкрикивалось на рабочих сходках. Предчувствие неотвратимых, гибельных перемен. И этот поезд, этот роскошный, сияющий огнями экспресс, мчащийся сквозь мертвую белую пустыню, казался ему Ноевым ковчегом, набитым представителями той самой, обреченной на потоп цивилизации.
Воронцов отложил книгу. Тишина купе, нарушаемая лишь мерным перестуком колес и поскрипыванием деревянной обшивки, стала давить. Пора было отправляться в вагон-ресторан, на этот ежевечерний спектакль, где пассажиры первого класса, словно актеры на сцене, разыгрывали пьесу под названием «Привычная жизнь продолжается». Он встал, поправил галстук перед зеркалом, в котором отразилось чужое, утомленное лицо, и вышел в коридор.
Коридор вагона был узок, как пенал, и пропитан сложным ароматом, в котором смешались запахи дорогого табака, духов «Коти», угольной пыли и чего-то еще – неуловимого, тревожного. Мягкий ковер приглушал шаги. Мельхиоровые ручки дверей тускло поблескивали в свете электрических ламп под матовыми плафонами. Проходя мимо купе, он, по старой профессиональной привычке, невольно отмечал детали.
Вот из приоткрытой двери донесся высокий, повелительный голос, в котором слышались нотки привыкшей повелевать и столь же привыкшей жаловаться аристократии. Княгиня Трубецкая, Софья Дмитриевна. Воронцов видел ее при посадке на вокзале – прямая, как гвардеец, спина, гордо вскинутый подбородок и взгляд, которым можно было заморозить шампанское в бокале. Вся ее фигура была живым памятником уходящей эпохе, и лишь чуть потертые перчатки да потускневшая от времени брошь выдавали, что величие рода уже не подкрепляется величиной состояния. Она выговаривала что-то своей компаньонке, и в ее голосе звенел металл – тот самый, что уже давно переплавили на пушки.
Дальше по коридору, у окна, стояли двое. Один – грузный, массивный, втиснутый в безупречно сшитый костюм, который, однако, сидел на нем, как на корове седло. Афанасий Григорьевич Хлудов, промышленник, делец, из тех, кого в газетах именовали «акулами капитализма». Его багровое лицо лоснилось от самодовольства, а в маленьких, глубоко посаженных глазках светился холодный расчет. Он говорил что-то своему собеседнику, негромко, но весомо, и каждое его слово падало, как гиря. Рядом с ним его компаньон, Пётр Игнатьевич Забельский, выглядел тенью – элегантный, с ухоженными руками и заискивающей улыбкой, он ловил каждое слово патрона, кивая с такой частотой, что, казалось, рисковал свернуть себе шею. Воронцов усмехнулся про себя: волк и шакал, классический дуэт.
Внезапно дверь соседнего купе отворилась, и на пороге появилась молодая женщина. Анна Павловна Хлудова. Жена промышленника. Фарфоровая статуэтка, случайно попавшая в лавку мясника. Ее красота была холодной и безупречной, как у камеи, но в огромных, чуть испуганных глазах застыла такая тоска, что Воронцову на миг стало не по себе. Она бросила на мужа и его спутника мимолетный, почти неуловимый взгляд, в котором смешались презрение и страх, и тут же опустила ресницы. Хлудов обернулся, его лицо не смягчилось, а наоборот, стало еще более тяжелым и властным. Он буркнул что-то, чего Воронцов не расслышал, и женщина, кивнув, бесшумно скрылась в своем купе. Предмет роскоши, очередное удачное вложение капитала, не более.
Воронцов двинулся дальше, стараясь не привлекать к себе внимания. В тамбуре, где клубился сизый дым папирос, он столкнулся с молодым человеком в потертой студенческой тужурке. Юноша, почти мальчик, с горящими, фанатичными глазами и копной спутанных волос, что-то яростно доказывал проводнику, размахивая руками.
– Это грабеж! Вы понимаете, что такие, как он, – студент ткнул пальцем в сторону коридора, где только что стоял Хлудов, – пьют народную кровь! А вы им прислуживаете!
Проводник, пожилой усатый мужчина с усталым лицом, лишь вздыхал.
– Ваше благородие, Дмитрий Сергеич, ну что ж вы опять за свое. Тише вы, не ровен час…
Студент – Воронцов мельком видел его фамилию в списке пассажиров, Разумов, – фыркнул, как рассерженный жеребец, и, заметив взгляд Воронцова, с вызовом посмотрел на него. В этом взгляде читалось все сразу: и презрение к господам в дорогих костюмах, и юношеский максимализм, и та опасная, слепая вера в свою правоту, из-за которой люди с легкостью идут и на подвиг, и на преступление. Воронцов молча прошел мимо, ощущая на спине его прожигающий взгляд.
Впереди, у входа в вагон-ресторан, застыла еще одна пара. Женщина в строгом темном платье, с гладко зачесанными волосами и абсолютно непроницаемым лицом – гувернантка-немка Ильза Фридриховна Крюгер. Воронцов отметил ее выправку, почти военную, и холодные, внимательные глаза. Даже в ее неподвижности чувствовался какой-то внутренний контроль, железная дисциплина. Рядом с ней щебетала, вся в мехах и перьях, актриса Лидия Аркадьевна Вертинская. Ее лицо было произведением искусства – тщательно наложенные краски, подведенные сурьмой глаза, трагически изогнутые алые губы. Она говорила что-то гувернантке преувеличенно громко, с театральными паузами и взмахами рук, словно и здесь, в узком коридоре поезда, не могла выйти из роли. Немка слушала ее молча, с вежливым, но отстраненным выражением лица. Две противоположности, два полюса: педантичный, холодный порядок и нарочитый, рассчитанный на публику хаос.
Наконец, Воронцов вошел в вагон-ресторан. Здесь царил иной мир. Свечи в серебряных канделябрах на столах отбрасывали теплые, дрожащие блики на полированные деревянные панели. Белоснежные скатерти, хрусталь, тихое позвякивание столовых приборов, услужливые официанты в белоснежных куртках – все это создавало иллюзию незыблемости, стабильности, словно за стенами этого вагона не было ни войны, ни голода, ни замерзающей, мечущейся в агонии страны. Это был островок прошлого, который с оглушительным стуком колес несся навстречу своему неминуемому крушению.
Он сел за свободный столик у окна. За стеклом теперь была лишь непроглядная тьма, в которой плясали снежные вихри, подсвеченные огнями поезда. Вагон чуть покачивало, бокал с водой на столе тихонько звенел, и этот звук, смешиваясь со стуком колес, создавал странную, убаюкивающую и вместе с тем тревожную музыку.
Постепенно ресторан наполнялся. Вот проследовала к своему столу княгиня Трубецкая, сев с такой царственной осанкой, будто занимала трон. За ней, шумно и властно, вошел Хлудов со своей свитой – женой и Забельским. Они заняли центральный стол. Хлудов тут же потребовал шампанского, его громкий голос разрезал приглушенный гул голосов, как тупой нож. Анна Павловна сидела рядом с ним, прямая и неподвижная, глядя в свою тарелку. Воронцов заметил, как под столом она судорожно сжимает в руках маленькую ридикюль.
Появилась и актриса Вертинская, устроив из своего прихода целый спектакль. Она картинно уронила на пол боа из лебяжьего пуха, чтобы подхвативший его молодой офицер, ехавший, видимо, в отпуск, имел честь его поднять и получить в награду томную улыбку. За соседний столик сел студент Разумов, который смотрел на все это великолепие с нескрываемой ненавистью, но, тем не менее, заказал себе котлету. Видимо, идеологические принципы отступали перед голодом. Немка-гувернантка скромно расположилась в углу, заказав лишь чай и сухарики, и погрузилась в чтение немецкой газеты, демонстративно отгородившись от окружающих.
Воронцов заказал себе борщ и рюмку водки. Он не хотел есть, но ритуал нужно было соблюсти. Он наблюдал. Это все, что ему оставалось, – наблюдать. Он видел, как Хлудов, уже осушив один бокал, положил свою тяжелую мясистую руку на руку жены, и как та едва заметно вздрогнула. Видел, как Забельский что-то вкрадчиво шепчет промышленнику на ухо, и как тот недовольно хмурится. Видел, как княгиня Трубецкая смерила актрису ледяным взглядом, в котором читалось презрение старой породы к выскочкам без роду и племени. И видел, как из служебной двери, почти невидимый на фоне темной панели, выскользнул и застыл за спиной своего хозяина лакей, Егор Силантьевич. Старик был тих и незаметен, как тень. Его лицо, изрезанное морщинами, не выражало ничего, кроме рабской покорности. Но Воронцов, чей взгляд был натренирован годами выискивать мельчайшие несоответствия, уловил нечто странное в его неподвижности. Этот человек не просто стоял – он чего-то ждал. Его взгляд был прикован к широкой спине Хлудова, и в глубине выцветших глаз на долю секунды мелькнуло что-то такое, от чего у Воронцова по спине пробежал холодок. Но мгновение спустя это исчезло, и перед ним снова был просто старый, преданный слуга.
Стук колес стал глуше. Вой вьюги за окном, напротив, усилился. Поезд замедлял ход, тяжело дыша паром. Вероятно, очередной занесенный снегом участок пути. Официант, проходя мимо, сказал вполголоса:
– Метель крепчает, сударь. Говорят, телеграфные провода где-то впереди порвало. До самой Бологое связи может не быть.
Воронцов кивнул, глядя в черное окно. Изоляция. Герметичность. Маленький мирок, отрезанный от всего остального света бураном. Он отпил водки. Она обожгла горло, но не принесла тепла. Тревога, до этого бывшая лишь смутным предчувствием, обретала плотность, становилась почти осязаемой. Она сидела за каждым столиком в этом позолоченном вагоне. Она пряталась за вежливыми улыбками, за светской болтовней, за звоном бокалов. Он чувствовал ее так же ясно, как чувствовал вибрацию вагона, несущегося сквозь снежную, завывающую пустоту в самое сердце замерзающей империи. И ему вдруг стало совершенно ясно, что эта ночь еще не закончилась. Этот спектакль был лишь прологом к настоящей драме.
Последний бокал шампанского
Официант, двигаясь с бесшумной сноровкой призрака, возник у стола Хлудова с запотевшей бутылью «Вдовы Клико» в ледяном ведерке. Пробка вылетела с пушечным, неуместно громким в этом замкнутом пространстве хлопком. Пена, шипя, устремилась из горлышка, словно живое существо, пытающееся вырваться на свободу. Этот звук послужил сигналом, камертоном, настроившим весь вечер на новую, пронзительную ноту. До этого момента в вагоне-ресторане царила атмосфера сдержанной светскости, теперь же в центре ее, подобно вулкану, начавшему извержение, оказался стол промышленника.
– Налейте! – гаркнул Хлудов, махнув тяжелой рукой. – Всем налейте! А ты, Анюта, что ж нос повесила? Радуйся. Шампанское пьем. Дорогое.
Он говорил это своей жене, но смотрел поверх ее головы, обводя присутствующих властным, оценивающим взглядом. Анна Павловна вздрогнула, когда официант коснулся краем бутылки ее высокого бокала. Она не подняла глаз, ее тонкие пальцы теребили бахрому на скатерти. Воронцов видел, как напряглась линия ее плеч под тонким шелком платья.
– Я не хочу, Афанасий Григорьевич, – тихо произнесла она, и в ее голосе прозвучала нота такой усталости, что казалось, будто одно это слово стоило ей неимоверных усилий.
Лицо Хлудова потемнело. Багровый цвет, обычно не сходивший с его щек, сгустился, превратившись в оттенок перезрелой сливы.
– Что значит «не хочу»? – пророкотал он, и несколько человек за соседними столиками инстинктивно замолчали, прислушиваясь. – Я сказал – пей. За мое здоровье. За успех нашего дела. Или ты успеху не рада?
Он взял ее бокал, почти полный, и властно сунул ей в руку, сомкнув свои толстые пальцы поверх ее хрупкой ладони. Это был жест собственника, демонстрирующего свое право на вещь. Анна Павловна побледнела так, что ее лицо почти слилось с белизной скатерти. Она поднесла бокал к губам и сделала крошечный глоток, словно принимала яд.
Хлудов удовлетворенно хмыкнул и повернулся к своему партнеру, Забельскому. Тот сидел, сияя вымученной улыбкой, и его бегающие глазки металися от патрона к его жене, пытаясь угадать правильную реакцию.
– А ты, Петруша, чего скалишься? Думаешь, я забыл про твой гамбургский конфуз?
Забельский замер, улыбка стекла с его лица, как подтаявший воск.
– Афанасий Григорьевич, помилуйте, какой же конфуз… Небольшая заминка, всего лишь…
– Заминка? – взревел Хлудов, ударив ладонью по столу так, что хрусталь жалобно звякнул. – Небольшая заминка в четверть миллиона! Да я за такую «заминку» людей в бараний рог скручиваю, а потом еще и рога эти им же в глотку заталкиваю! Ты мне поставку леса для артиллерийских ящиков сорвал! Думаешь, я тебя из милости в компаньонах держу? Чтобы ты мои денежки на ветер пускал?
Каждое слово было плетью. Забельский съежился, его элегантный костюм вдруг стал казаться мешковатым, а холеное лицо покрылось мелкими бисеринками пота. Он что-то залепетал о недобросовестности немецких поставщиков, о трудностях военного времени, но Хлудов его не слушал. Он упивался властью, упивался унижением другого человека, и это зрелище было куда более пьянящим для него, чем любое шампанское. Воронцову, привыкшему к тому, что самые уродливые человеческие страсти обычно прячутся за фасадом благопристойности, это публичное саморазоблачение показалось почти неприличным, словно он подглядывал за безобразной семейной сценой в замочную скважину.
– Молчать! – оборвал его Хлудов. – В Москве с тобой будет другой разговор. Отдельный. А пока пей. Может, мозги на место встанут.
Он наполнил бокал Забельского до краев и кивком головы указал, что тот должен выпить. Забельский, давясь, осушил бокал одним махом, и по его щеке скатилась слеза – от выпитого ли вина, от горечи ли унижения, было не разобрать.
Словно почувствовав, что эта сцена затянулась, Хлудов сменил мишень. Его взгляд, тяжелый и маслянистый, остановился на актрисе Вертинской, сидевшей в некотором отдалении.
– Лидия Аркадьевна! Богиня! – провозгласил он с той фамильярностью, от которой коробило. – Все так же порхаете по жизни, как мотылек на огонь? Слышал, в «Фарсе» у вас новый бенефис. Публика в восторге, мужчины штабелями укладываются. Всегда говорил, что ваш главный талант не на сцене, а… в умении производить впечатление.
Вертинская, до этого разыгрывавшая томную меланхолию, мгновенно преобразилась. Ее спина выпрямилась, в глазах сверкнули ледяные искры. Комплимент был двусмысленным, почти оскорбительным, и в нем явно содержался намек, понятный только им двоим.
– Ах, оставьте, Афанасий Григорьевич! – ее голос зазвенел, как натянутая струна. – Ваши комплименты всегда были острее ножа. Боюсь, если вы продолжите, я истеку кровью прямо здесь, на этот чудесный персидский ковер. Испорчу вам аппетит.
Она произнесла это с трагическим пафосом, приложив руку ко лбу, но Воронцов заметил, как ее пальцы, унизанные кольцами, чуть дрогнули. Она играла, как играла всегда, но за театральной маской он увидел тень подлинного, непритворного страха или, быть может, ненависти. Хлудов захохотал, довольный произведенным эффектом. Он знал, что его стрела попала в цель.
Его блуждающий взгляд наткнулся на стол княгини Трубецкой. Софья Дмитриевна сидела прямо и неподвижно, делая вид, что не замечает происходящего, и с аристократической невозмутимостью изучала карту вин. Эта демонстративная отстраненность, видимо, раззадорила Хлудова еще больше. Он поднялся, грузно, как медведь, и, взяв бутылку шампанского, направился к ее столу.
– Княгиня! Софья Дмитриевна! Мое почтение, – он склонил голову в шутовском поклоне. – Позвольте угостить вас сим божественным нектаром. Негоже такой знатной даме скучать в одиночестве.
Княгиня медленно подняла на него глаза. Ее лицо было подобно маске из слоновой кости – ни единой эмоции.
– Благодарю вас, Афанасий Григорьевич. Я не скучаю, я наслаждаюсь покоем. И предпочитаю красное сухое.
– Пустое! – отмахнулся Хлудов, бесцеремонно подливая шампанское в ее бокал. – Красное – для меланхолии. А шампанское – для праздника! А у нас с вами, можно сказать, праздник. Дела наши давеча так удачно устроились.
Воронцов понял: речь шла о карточном долге. Хлудов не просто напоминал о нем – он выставлял его напоказ, облекая свое торжество в форму любезности. Он предлагал ей шампанское, купленное на деньги, которые, по сути, теперь принадлежали ему. Унижение было тонким, садистским, рассчитанным на то, чтобы ударить по самому больному – по родовой гордости.
Княгиня не дрогнула. Лишь в уголках ее тонких, обескровленных губ залегла едва заметная складка.
– Вы слишком щедры, сударь, – проговорила она ледяным тоном, отчетливо разделяя слоги. – Боюсь, я не смогу принять вашу любезность. Честь, знаете ли, не позволяет пить за счет… удачливых партнеров по игре.
– Ну что вы, княгиня, какая честь, когда речь о дружеском расположении! – не унимался Хлудов. – А насчет долга… Не беспокойтесь. Я человек не злой. Мне ваше колье фа-миль-но-е, что вы в залог оставили, и даром не нужно. Безделушка. Я вам его так верну. А вы мне за это… ну, скажем, уступите тот лесок подле вашего имения. Мне там лесопилку поставить надобно. И вам облегчение, и мне польза. По рукам?
Это было уже не просто унижение. Это было публичное глумление. Он предлагал ей выкупить фамильную драгоценность, свидетельство сотен лет ее рода, за кусок земли, последнее, что у нее, возможно, оставалось. Он превращал ее прошлое, ее историю, ее честь в предмет торга, равняя ее с собой, купцом, для которого все на свете имеет свою цену.
Воронцов увидел, как рука княгини, лежавшая на столе, сжалась в кулак так, что костяшки пальцев побелели. Она молчала, и эта тишина была страшнее любого крика. Казалось, воздух вокруг нее застыл, стал плотным и холодным.
– Вы… вы забываетесь, Афанасий Григорьевич, – наконец произнесла она, и ее тихий голос резал, как стекло. – Вы не на бирже. И я вам не товар.
И в этот момент взорвался студент Разумов. Он наблюдал за этой сценой с искаженным от негодования лицом, и чаша его терпения, очевидно, переполнилась. Он вскочил на ноги, опрокинув стул.
– Мерзавец! – выкрикнул он, и его юный голос сорвался от волнения. – Вы – пиявка на теле России! Кровопийца! Вы и такие, как вы, жиреете на народном горе, на войне, унижаете женщин, скупаете за бесценок последнее достояние аристократии, которую сами же презираете! Вы думаете, вам все позволено, потому что у вас есть деньги? Ваши деньги пахнут кровью!
Наступила тишина. Та самая тишина, которая не приносила облегчения, а, напротив, сгущалась, делаясь вязкой, как смола. Все взгляды были устремлены на студента и на Хлудова. Хлудов, который все еще стоял у стола княгини, медленно повернулся. На его лице не было гнева. Лишь ленивое, сытое презрение.
– Щенок, – произнес он спокойно, почти миролюбиво. – Гавкаешь? Ну, гавкай. Караван идет. Ты, поди, из этих, из новых… которые за свободу для всех? Хочешь, я тебе свободы куплю? Сколько стоит твоя свобода, а? Или ты, может, за равенство? Так я тебя с собой быстро уравняю. В порошок сотру и по ветру развею. А теперь сядь и не отсвечивай, пока я добрый.
Он повернулся к нему спиной, демонстрируя полное пренебрежение, и вернулся за свой стол. Этот жест был унизительнее любой пощечины. Разумов стоял, дрожа от бессильной ярости, его лицо пылало. Он что-то прошептал, скорее всего, проклятие, и, схватив со стола свою тарелку с недоеденной котлетой, с силой швырнул ее на пол. Фарфор разлетелся с оглушительным звоном. Не говоря больше ни слова, он выбежал из вагона-ресторана.
Хлудов лениво поглядел ему вслед и махнул рукой официанту.
– Уберите мусор. И принесите еще шампанского.
Вечер был бесповоротно отравлен. Спектакль окончился фарсом, оставив после себя горькое послевкусие. Разговоры за столиками возобновились, но велись уже вполголоса, украдкой. Каждый из присутствующих только что стал свидетелем того, как Афанасий Хлудов за один вечер нажил себе, по меньшей мере, четырех смертельных врагов – если не считать его собственную жену, чья молчаливая ненависть была, пожалуй, самой густой и концентрированной. Княгиня Трубецкая, оскорбленная в своих последних святынях. Актриса Вертинская, которой публично намекнули на некий компрометирующий секрет. Партнер Забельский, доведенный до грани разорения и отчаяния. И студент Разумов, чье идеологическое неприятие переросло в личную, кипящую злобу.
Воронцов медленно допил свою водку. Она больше не обжигала. Он смотрел на Хлудова, который теперь, казалось, был в самом лучшем расположении духа. Он громко смеялся, что-то рассказывая оцепеневшему Забельскому, и время от времени бросал торжествующие взгляды по сторонам. Он был хозяином этого маленького мира, царем и богом этого стального ковчега, несущегося сквозь снежную ночь. Человек, уверенный в своей абсолютной безнаказанности. Воронцов хорошо знал этот тип людей. Он знал, что они оставляют за собой выжженную землю – разоренные состояния, сломанные карьеры, разбитые сердца. Они идут по жизни, как ледокол, ломая все на своем пути, и не оглядываются. Но иногда, думал Воронцов, глядя в чернильную темноту за окном, где выла и бесновалась вьюга, лед оказывается слишком толстым. Или под ним скрывается торос, невидимый, острый и смертоносный.
Хлудов поднял свой бокал.
– За успех! – провозгласил он на весь вагон. – За мой успех! Потому что мой успех – это единственное, что имеет значение!
Он осушил бокал до дна. И Воронцову показалось, что это был не просто тост. Это было нечто вроде вызова, брошенного всем присутствующим. Вызова, который кто-то мог и принять. Промышленник тяжело поднялся, кивнул жене, и они покинули вагон-ресторан. За ними, как тень, скользнул верный лакей Егор.
Напряжение в зале не спало, оно лишь изменило свою форму. Люди начали расходиться, стараясь не встречаться друг с другом взглядами, словно участие в этой сцене, даже в качестве молчаливых зрителей, сделало их всех соучастниками чего-то грязного и непоправимого. Воронцов остался сидеть за своим столиком один. Стук колес вновь стал главным звуком, монотонным, гипнотическим. Он отмерял время, уходящее в никуда, в снежную бесконечность. А Воронцов мысленно перебирал лица, слова, жесты, которые он видел сегодня. Он еще не знал, что стал свидетелем раздачи ролей в трагедии, чей кровавый финал был уже предрешен. Он просто чувствовал, что этот последний бокал шампанского, выпитый с такой вызывающей жадностью, действительно окажется для кого-то последним.