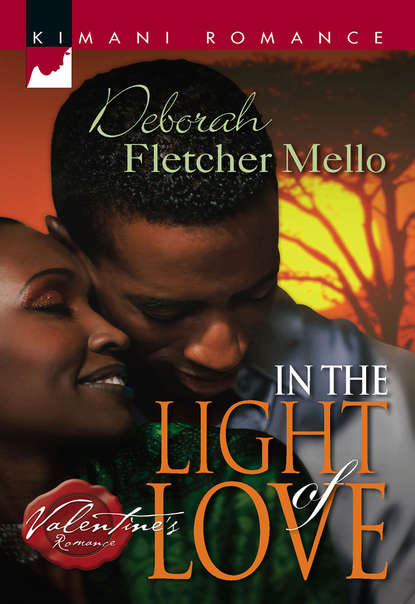Убийство в поезде на Москву

- -
- 100%
- +
Тишина в купе номер семь
Ночь содрала с мира все краски, оставив лишь два первозданных цвета: угольную черноту и ослепительную белизну. Буран, истерзав себя до полного изнеможения, к рассвету утих, словно задохнувшийся в последнем яростном вопле. Поезд стоял. Эта остановка не была похожа на короткие станционные паузы; в ней ощущалась окончательность, будто стальной змей, пробившись сквозь ледяной ад, наконец испустил дух посреди безбрежного снежного савана. Тишина, наступившая вслед за этим, была особого свойства. Не просто отсутствие шума, а его насильственное изъятие из мира. Она давила на барабанные перепонки, делала воздух плотным, вязким, и казалось, что каждый вздох в этой оглушительной неподвижности звучит как святотатство.
Константин Арсеньевич Воронцов проснулся не от холода, пробравшегося в купе, и не от неестественного безмолвия, а от внутреннего толчка, от привычки старого ищейки просыпаться за мгновение до того, как должно случиться неладное. Он лежал несколько минут не шевелясь, вслушиваясь. Стук колес, этот неусыпный метроном их путешествия, исчез, и его отсутствие ощущалось почти физически, как ампутация. Снаружи, за покрытым ледяной каллиграфией стеклом, занимался бледный, анемичный рассвет. Мир казался стерильным, вымороженным, лишенным всякого присутствия жизни.
Он оделся, не зажигая света. Привычные ритуалы – холодная вода из медного краника, скрип накрахмаленного воротничка, узел галстука, завязанный наощупь, – служили хрупким якорем в этом океане тревожной неопределенности. Когда он вышел в коридор, тот был пуст и гулок. Тусклые электрические лампы еще горели, отбрасывая желтые, нездоровые блики на полированные панели. Воздух был спертым и холодным. Из вагона-ресторана доносился едва слышный звон посуды – там начиналась подготовка к утреннему кофе, отчаянная попытка симулировать нормальность.
Именно в этот момент рутина дала первую трещину. Проводник вагона, тот самый пожилой усач по имени Прохор, появился в конце коридора с подносом, на котором дымился стакан чая в мельхиоровом подстаканнике. Он подошел к двери купе номер семь – купе Хлудова – и деликатно постучал костяшками пальцев.
– Афанасий Григорьевич, ваше сиятельство. Утренний чай, как изволили заказывать.
Ответа не последовало. Прохор подождал с полминуты, переминаясь с ноги на ногу, и постучал снова, на этот раз громче, настойчивее.
– Ваше сиятельство! Чай стынет.
За дверью царила та же плотная, войлочная тишина, что и за окнами поезда. Воронцов, стоявший в нескольких шагах, невольно напрягся. Проводник неуверенно подергал медную ручку. Дверь была заперта.
– Заперлись, видать, крепко, – пробормотал он себе под нос, но в его голосе уже слышались нотки недоумения. – Обычно Егор Силантьевич спозаранку уж тут как тут…
Он поставил поднос на откидное сиденье и забарабанил в дверь уже кулаком, без прежнего подобострастия.
– Афанасий Григорьевич! С вами все в порядке? Отзовитесь!
Звук ударов разносился по пустому коридору неестественно громко, нарушая утреннее оцепенение. Из соседнего купе, поеживаясь от холода, высунулся Забельский. На нем был дорогой шелковый халат, но лицо его, без обычной маски любезности, было помятым, серым и тревожным.
– Что за шум, Прохор? Что случилось?
– Да вот, Петр Игнатьич, достучаться не могу, – растерянно ответил проводник. – Заперлись и молчат. Не к добру это.
– Как это молчат? – вскинулся Забельский. – Афанасий Григорьевич не из тех, кто спит крепко. Особенно в дороге. Может, дурно стало?
Его голос дрогнул. Воронцов отметил, как быстро его первоначальное раздражение сменилось плохо скрываемым страхом. Впрочем, страх этот мог быть вызван чем угодно: и беспокойством о здоровье партнера, и опасением за судьбу собственных дел, висевших на волоске.
Двери других купе начали приоткрываться. Постепенно коридор наполнялся людьми, вырванными из утренней дремы этим нарастающим гулом тревоги. Появилась княгиня Трубецкая, закутанная в старую, но добротную шаль. Ее лицо хранило выражение ледяного аристократического недовольства, словно она стала свидетельницей балаганного представления. Вышла, зевая и картинно прикрывая рот ладошкой, актриса Вертинская; ее глаза, еще не тронутые гримом, казались испуганными и на удивление юными. Даже студент Разумов, привлеченный шумом, выглянул из своего купе второго класса, куда его перевели после вчерашнего инцидента. Его лицо было угрюмым, а во взгляде, которым он окинул собравшихся, читалось враждебное любопытство.
Из своего купе, словно из футляра, вышла Ильза Крюгер. Она была уже полностью одета, в своем строгом, безупречном платье, и ее спокойствие разительно контрастировало с общим смятением. Она не задавала вопросов, а лишь молча наблюдала, и ее внимательные, бесцветные глаза, казалось, фиксировали каждую деталь. Последней, почти бесшумно, появилась Анна Павловна. Она была бледна, как полотно, на плечи накинут легкий пеньюар. Ее огромные глаза были полны непонимания и страха, который, в отличие от страха Забельского, казался подлинным.
– Что здесь происходит? – прошептала она, обращаясь не к кому-то конкретно, а в пустоту.
– Не беспокойтесь, Анна Павловна, – тут же подскочил к ней Забельский, понижая голос до вкрадчивого шепота. – Вероятно, Афанасий Григорьевич просто утомился с дороги и крепко спит.
Но его слова никого не убедили. Атмосфера в узком коридоре сгущалась, пропитываясь общим, невысказанным предчувствием беды.
В этот момент по коридору, тяжело ступая, спешил начальник поезда, Степан Карпович Мягков, – полный, задыхающийся мужчина с красным лицом и жидкими, прилипшими ко лбу волосами. Его мундир был застегнут на все пуговицы, но вид у него был отчаянно растерянный.
– Что у вас тут? Что за собрание? – пропыхтел он, протискиваясь сквозь небольшую толпу.
– Беда, Степан Карпович, – отрапортовал проводник. – Господин Хлудов на стук не отзываются. Дверь изнутри на ключ и на засов заперта.
Начальник поезда побагровел еще больше.
– Как на засов? А ну-ка, сам.
Он со всей силы заколотил в дверь массивным кулаком, отчего вагон, казалось, вздрогнул.
– Господин Хлудов! Откройте! Начальник поезда говорит!
Ответом была все та же мертвая, непроницаемая тишина. Степан Карпович приложил ухо к двери, прислушался и отпрянул, мотнув головой.
– Тихо. Как в склепе.
Это слово, сорвавшееся с его губ, повисло в воздухе. Никто не проронил ни звука. Все смотрели на дверь купе номер семь, словно это был запечатанный саркофаг, скрывающий некую страшную тайну.
Наконец, Забельский не выдержал.
– Надо вскрывать! – почти выкрикнул он. – Немедленно! Может, ему помощь нужна! Припадок, удар… Каждая минута на счету!
– По уставу не положено имущество пассажиров… – начал было мямлить Степан Карпович, но тут же осекся под тяжелым взглядом Забельского.
– К черту устав! – прошипел тот. – Вы понимаете, кто там?! Это Хлудов! Если с ним что-то случится, вас с землей сровняют!
Начальник поезда заколебался. Он был человеком маленьким, привыкшим к инструкциям и предписаниям, и перспектива взять на себя ответственность его ужасала. Он обвел глазами пассажиров, ища поддержки. Взгляд его остановился на Воронцове.
– А вы, сударь, что скажете? – спросил он, видимо, интуитивно почувствовав в его спокойствии некую опору.
– Я скажу, что промедление в данном случае может быть истолковано как преступная халатность, – ровным голосом ответил Воронцов. – Дверь нужно вскрыть.
Это решило дело.
– Прохор! Инструмент! – скомандовал Степан Карпович, обретя некоторую решимость. – Лом и топор. Живо!
Пока проводник бежал за инструментом, в коридоре установилась напряженная, выжидательная тишина. Пассажиры не расходились. Они стояли, сбившись в кучку, – небольшой театр испуганных масок, освещенный тусклым светом ламп. Воронцов отошел чуть в сторону, к окну, откуда ему была видна и дверь, и лица собравшихся. Он видел, как Анна Хлудова прижимает руку к губам, ее глаза расширены от ужаса. Видел, как Забельский нервно теребит шнурок своего халата, его губы беззвучно шевелятся. Видел холодное, почти брезгливое выражение на лице княгини, словно вся эта суета была ниже ее достоинства. Видел, как актриса Вертинская, забыв о своей роли, с неподдельным страхом смотрит на дверь. И видел, как из тени, бесшумно, как привидение, появился лакей Егор Силантьевич. Он был одет в свою ливрею, идеально опрятен, и на его лице не дрогнул ни один мускул. Он просто встал позади всех и замер, превратившись в изваяние, ожидающее приговора.
Вернулся Прохор, неся тяжелый слесарный лом и небольшой топор.
– Отступитесь! – крикнул начальник поезда, и пассажиры нехотя попятились.
Первый удар лома по замку прозвучал оглушительно. Дверь, сделанная из крепкого дуба, лишь содрогнулась. Прохор, крякнув, ударил снова. Послышался треск.
– Не поддается, Карпыч! Крепко сидит!
– Давай топором! Щепу руби у замка!
Удары топора были короче, злее. Щепки полетели на ковровую дорожку. В коридоре запахло свежей, раненой древесиной. Анна Хлудова тихо всхлипнула и отвернулась, уткнувшись лицом в плечо подскочившей к ней Вертинской. Каждый удар отдавался в нервах, как удар молотка по натянутому струной ожиданию. Наконец, с громким хрустом, часть дверной коробки поддалась. Прохор снова вставил лом в образовавшуюся щель и навалился всем телом.
С протяжным, стонущим скрипом дверь распахнулась внутрь.
Несколько секунд никто не решался войти. Из купе тянуло холодом и странным, тяжелым запахом, в котором смешались ароматы дорогого одеколона, остывшего табачного дыма и чего-то еще, приторно-сладкого, металлического, от чего першило в горле. Первым, оттолкнув начальника поезда, шагнул внутрь Забельский. И тут же замер на пороге, издав странный, сдавленный звук, похожий на всхлип.
– Боже… О, Боже мой…
Воронцов, протиснувшись вперед, заглянул ему через плечо.
Купе номер семь, еще вчера вечером бывшее образцом роскоши и порядка, теперь представляло собой картину хаоса и смерти. Постель была нетронута, одеяло аккуратно откинуто. Но сам хозяин купе лежал на полу, возле небольшого письменного столика, в неестественной, вывернутой позе. Его грузное тело было облачено в тот же дорогой костюм, в котором он был вчера. Голова была запрокинута, глаза, широко открытые, бездумно смотрели в потолок, и в их застывшей поверхности отражался тусклый свет лампы. Лицо, еще вчера багровое от вина и самодовольства, теперь имело серо-желтый, восковой оттенок.
Из груди его, чуть левее сердца, торчала рукоять. Изящная, перламутровая рукоять ножа для разрезания бумаг. Вокруг нее на белоснежной рубашке расплылось огромное, уже запекшееся бурое пятно. А под телом, на светлом персидском ковре, растеклась темная, почти черная лужа, впитавшаяся в ворс с неторопливой жадностью прожорливого насекомого. Рядом валялся опрокинутый бокал, а на столике были разбросаны какие-то бумаги.
В коридоре раздался пронзительный женский крик. Анна Павловна, заглянув в купе, отшатнулась и медленно, как подкошенная, стала оседать на пол. Ее успела подхватить Ильза Крюгер, чье лицо в этот момент единственное сохраняло ледяное самообладание. Начальник поезда, заглянув в купе, позеленел и, прижав руку ко рту, выскочил в коридор, сотрясаясь от рвотных позывов. Паника, до этого лишь тлевшая под покровом тревожного ожидания, вспыхнула, как порох.
Лишь Воронцов не сдвинулся с места. Он стоял на пороге, и его мозг, дремавший годами, мгновенно проснулся, заработав с холодной, отточенной точностью часового механизма. Пока остальные видели лишь ужас, он видел факты.
Тело. Оружие – очевидно, принадлежавшее убитому, лежавшее на его же столе. Поза – указывающая на внезапность нападения. Но главное было не это. Его взгляд, цепкий и быстрый, скользнул по деталям, которые ускользнули от всеобщего внимания. Окно было плотно закрыто, и на заиндевевшем стекле не было никаких следов. А на внутренней стороне распахнутой двери, чуть выше разбитого замка, отчетливо виднелся тяжелый медный засов. Он был задвинут.
Дверь была заперта изнутри. На ключ и на засов. Окно было заперто.
Мысль, острая, как скальпель, пронзила его сознание.
Они в ловушке. В стальном саркофаге, занесенном снегом посреди бескрайней русской равнины. В двенадцати шагах от трупа. И один из них, тот, кто сейчас стоит в этом коридоре и смотрит на дело своих рук с ужасом, или с любопытством, или с холодным расчетом, – хладнокровный убийца.
Стук колес больше не звучал. Но Воронцов вдруг услышал в наступившей тишине другой, куда более страшный звук. Это тикали часы. И время стремительно уходило.
Запертая комната и двенадцать незнакомцев
Хаос не имел ни формы, ни звука; он был состоянием воздуха, вибрацией, прошедшей по вагону и исказившей черты людей до неузнаваемости. Первоначальный шок, оцепенивший всех на пороге седьмого купе, схлынул, обнажив под собой вязкое дно паники. Актриса Вертинская, чье лицо без грима походило на испуганную фарфоровую куклу, издавала короткие, прерывистые всхлипы, ухватившись за рукав сохранявшей монументальное спокойствие Ильзы Крюгер. Забельский метался по узкому коридору, как зверь в клетке. Его элегантный халат распахнулся, обнажив белоснежную сорочку, а холеное лицо пошло красными пятнами. Он отдавал бессмысленные, противоречивые приказания:
– Воды! Кто-нибудь, принесите воды Анне Павловне! Прохор, почему вы стоите?! Нужно что-то делать! Вызвать врача! Полицию!
Анна Хлудова, которую немецкая гувернантка и подоспевшая компаньонка княгини усадили на откидное сиденье, не плакала. Она сидела, глядя в одну точку невидящими, сухими глазами, и лишь мелкая, непрекращающаяся дрожь сотрясала ее хрупкое тело. Ее реакция была страшнее любой истерики – это было молчаливое оцепенение человека, заглянувшего в бездну и оставшегося там, на краю.
– Какой полиции, опомнитесь, Петр Игнатьевич! – взвизгнул начальник поезда, Степан Карпович, чье лицо приобрело цвет сырого теста. Он обмахивался фуражкой, хотя в вагоне стоял пронизывающий холод. – Связи нет! Телеграф молчит! Мы застряли черт знает где, в сугробах по самую крышу! Мы отрезаны от мира!
Эта фраза, произнесенная срывающимся от отчаяния голосом, подействовала на собравшихся сильнее, чем вид мертвого тела. Одно дело – убийство, страшное, но все же событие, имеющее начало и конец, предполагающее вмешательство властей, расследование, суд. И совсем другое – осознание полной, абсолютной изоляции. Они были не просто в поезде. Они были на необитаемом острове из стали и дерева, затертом во льдах, и среди них, невидимый и неизвестный, находился тот, чьи руки были в крови. Страх перестал быть абстрактным; он обрел плотность, запах, он стоял рядом с каждым, дышал ему в затылок.
– Тогда нужно запереть всех по купе! – выкрикнул Забельский, впиваясь взглядом в студента Разумова, который стоял поодаль, прислонившись к стене. Лицо юноши было бледным, но на губах играла странная, злая усмешка.
– Что, уже нашли виновного? – язвительно бросил Разумов. – Конечно, кто же еще, как не нигилист, мог прирезать вашего кровопийцу? Удобно, не правда ли?
– Молчать, щенок! – зашипел Забельский. – Ты вчера ему смертью угрожал! Все слышали!
Княгиня Трубецкая, до этого хранившая ледяное молчание, сделала шаг вперед. Ее голос, низкий и властный, прозвучал, как удар хлыста.
– Прекратите этот балаган. Степан Карпович, вы здесь представитель власти. Возьмите себя в руки и наведите порядок. Дверь в купе немедленно запереть. Никого не впускать и не выпускать. И прекратите эту гнусную перепалку. Мы не на базаре.
Авторитет, звучавший в ее голосе, на мгновение возымел действие. Начальник поезда суетливо кивнул, достал из кармана связку ключей и, выбрав самый большой, с трудом запер то, что осталось от двери в седьмое купе. Звук повернувшегося в замке ключа был окончательным и бесповоротным. Он отделял мир живых от мира мертвых.
Именно в этот момент Степан Карпович, совершенно потерянный и раздавленный свалившейся на него ответственностью, в отчаянии обвел взглядом застывших пассажиров. Ему нужен был не просто помощник – ему нужен был кто-то, кто снимет с него этот непосильный груз. Его взгляд, мечущийся и затравленный, остановился на Воронцове. Константин Арсеньевич стоял чуть поодаль, не принимая участия в общей суматохе, и его отстраненное спокойствие на фоне всеобщей истерии казалось почти сверхъестественным.
Проводник Прохор, видя отчаяние начальника, кашлянул в кулак и, подойдя к нему, что-то торопливо зашептал на ухо, кивая в сторону Воронцова. Степан Карпович удивленно вскинул брови, его глаза округлились. Он посмотрел на Воронцова уже не как на простого пассажира, а как утопающий смотрит на брошенный ему спасательный круг. Он решительно шагнул к нему, расталкивая остальных.
– Господин Воронцов? Константин Арсеньевич? – его голос дрожал от смеси надежды и подобострастия. – Прохор мне тут сказал… что вы… прежде служили. По следственной части.
Воронцов медленно перевел на него взгляд. В его серых, усталых глазах не отразилось ни удивления, ни интереса.
– Служил, – ровным тоном подтвердил он. – Ключевое слово – «прежде».
– Но… опыт-то остался! – взмолился Степан Карпович, почти переходя на крик. – Константин Арсеньевич, батюшка, войдите в положение! У меня тут убийство! В поезде! Пассажир первого класса, Хлудов! Вы понимаете, что со мной будет, если я сейчас ошибку совершу? Меня же… меня в Сибирь сгноят! А помощи ждать неоткуда! Поезд застрял, может, на сутки, а то и больше. Пока доберемся до Москвы, убийца все следы заметет, скроется!
Он говорил быстро, сбивчиво, хватая Воронцова за лацкан пиджака. Пассажиры, услышав этот разговор, замолчали и с любопытством уставились на них. Бывший следователь. В одно мгновение Воронцов перестал быть для них просто одним из соседей. Он стал фигурой, наделенной знанием и властью, которых им так не хватало.
– У вас есть устав, Степан Карпович, – холодно заметил Воронцов, осторожно высвобождая свой пиджак из его цепких пальцев. – Действуйте по уставу. Опечатайте купе, опросите свидетелей, по прибытии передайте дело полиции. Мое участие здесь излишне. Я в отставке.
– Да какой устав, помилуйте! – взвыл начальник поезда. – Мой устав – на случай, если кто без билета проедет или пьяный дебош устроит! А тут – нож в сердце! В запертом изнутри купе! Вы же сами видели – засов! Как он туда попал, этот душегуб?! Как вышел?! Это же чертовщина какая-то! Я тут с ума сойду один! Прошу вас, Константин Арсеньевич, не как начальник, а как человек прошу! Помогите! Хотя бы до Москвы… Просто осмотрите все, пока следы не остыли. Направьте меня, дурака, что делать. А я уж всю ответственность на себя возьму, в рапорте все как надо изложу!
Воронцов молчал. Он смотрел поверх головы Степана Карповича на лица, собравшиеся вокруг. В одних глазах он читал надежду, в других – страх, в третьих – неприкрытое любопытство. Забельский смотрел на него с жадной надеждой, словно нанятый им адвокат. Княгиня Трубецкая – с холодным ожиданием, как на слугу, который должен навести порядок. Студент Разумов – с дерзким вызовом и подозрением. И лишь в глубине вагона, почти невидимый, стоял лакей Егор, и его взгляд, единственный из всех, был абсолютно пуст.
Он не хотел этого. Всем своим существом он противился этому погружению в старую, грязную трясину человеческих пороков, лжи и насилия. Он заплатил слишком высокую цену за то, чтобы вырваться из нее. Его отставка была не поражением, а осознанным выбором, попыткой сохранить остатки души, не дать ей окончательно зачерстветь от соприкосновения с чужими грехами. И вот теперь судьба, с ехидной усмешкой, снова подсовывала ему под нос то, от чего он бежал: труп, дюжину лжецов и неразрешимую загадку.
Но в то же время, где-то в самой глубине его уставшего сознания, что-то шевельнулось. Профессиональный инстинкт, который он столько лет пытался в себе усыпить, встрепенулся, как старая охотничья собака, услышавшая звук рога. Запертая комната. Убийство, бросающее вызов самой логике. Это была не просто грязная поножовщина. Это был ребус, дьявольская головоломка, составленная чьим-то изощренным, холодным умом. И этот ум бросал ему вызов. Отказаться – значило признать свое поражение не перед системой, а перед хаосом. А этого Воронцов, при всей своей апатии, допустить не мог. Стремление к порядку, к ясности, к восстановлению нарушенной гармонии причин и следствий было заложено в самой его природе.
– Хорошо, – произнес он наконец, и это слово прозвучало в наступившей тишине оглушительно громко. – Я помогу. Но при одном условии. С этой минуты и до прибытия в Москву мои распоряжения здесь – закон. Для всех. И для вас, Степан Карпович, и для всех пассажиров. Все будут оставаться в своих купе. Выходить разрешается только с моего позволения. Любая попытка неповиновения будет рассматриваться как препятствие правосудию. Вам ясно?
Его тон изменился. Исчезла апатичная усталость, на ее место пришла сухая, властная энергия. Начальник поезда поспешно, с облегчением закивал, вытирая пот со лба.
– Ясно, Константин Арсеньевич! Все, как скажете! Полностью вам доверяю!
– Тогда первое распоряжение, – Воронцов обвел собравшихся холодным, внимательным взглядом, от которого многие поежились. – Господа, прошу всех немедленно разойтись по своим купе. Прохор, вы проследите. Госпожу Хлудову проводите, дайте ей воды и успокоительного, если имеется. Через час я начну опрос. По одному.
Никто не посмел возразить. Власть, которую только что добровольно уступил ему начальник поезда, была принята и мгновенно утверждена. Пассажиры, перешептываясь, стали расходиться. Коридор опустел. Остались только Воронцов, Степан Карпович и проводник Прохор, стоявший навытяжку, как солдат перед генералом.
– Ключ, – коротко бросил Воронцов начальнику поезда.
Тот с готовностью протянул ему тяжелый медный ключ от седьмого купе.
– Степан Карпович, вы и Прохор пойдете со мной. Как свидетели. Больше никто в купе не войдет.
Он вставил ключ в замок, повернул. Снова этот звук, отделяющий миры. Он толкнул истерзанную дверь и, помедлив секунду на пороге, вошел внутрь.
Первое, что он сделал, – плотно прикрыл за собой дверь, отгораживаясь от остального вагона. В купе царил холод. Окно, забитое снаружи снегом, пропускало скудный, мертвенный свет, который смешивался с желтым сиянием электрической лампы, создавая тягостную, неживую атмосферу. Запах стал сильнее: острая, тошнотворная сладость крови смешивалась с ароматом дорогого сигарного табака, оставшегося в воздухе со вчерашнего вечера.
Воронцов не спешил. Он замер у входа, давая своим глазам привыкнуть, впитать картину целиком, не упуская ни единой детали. В его работе спешка была главным врагом. Истина всегда пряталась в мелочах, которые ускользают от взгляда, торопящегося сделать выводы. Начальник поезда и проводник застыли за его спиной, боясь шелохнуться и нарушить ритуал.
Он начал с двери. Осмотрел изуродованный замок, щепки на полу. Затем его внимание привлек засов. Массивный, медный, прочно сидящий в пазу. Он осторожно, кончиками пальцев, проверил его. Засов был действительно задвинут. Никаких царапин или следов, указывающих на то, что его могли задвинуть снаружи с помощью какого-то инструмента, не было. Первая стена.
Затем – окно. Он подошел к нему вплотную. Рама была старая, но добротная. Шпингалет, тоже медный, позеленевший от времени, был плотно завернут. Воронцов попытался его повернуть – тот не поддавался, прихваченный морозом. Он внимательно осмотрел стекло. Изнутри оно было покрыто тончайшей пленкой льда, на которой застыли причудливые узоры. Эти узоры были нетронуты. Ни единого отпечатка, ни единого смазанного следа. Снаружи, за стеклом, на узком карнизе лежал толстый, девственно чистый слой снега, прижатый к раме силой ветра. Пройти через это окно и не оставить следов было физически невозможно. Вторая стена.
Он медленно обошел купе, не приближаясь к телу. Осмотрел стены, обтянутые темно-зеленым штофом. Никаких потайных дверей, никаких панелей. Потолок. Пол, покрытый ковром. Его взгляд скользил по поверхности, методично, сантиметр за сантиметром. Он был не следователем – он был геологом, изучающим поверхность чужой, враждебной планеты.
Наконец, он подошел к телу. Он не стал его трогать, лишь присел на корточки, рассматривая все с близкого расстояния. Хлудов лежал на левом боку, поджав под себя ноги, словно пытаясь защититься от удара, который настиг его слишком быстро. Глаза, широко раскрытые, были устремлены в потолок с выражением крайнего удивления, а не боли. Убийство было внезапным.
Нож. Перламутровая рукоять, украшенная серебряной монограммой «А.Х.». Оружие принадлежало жертве. Оно вошло в тело под прямым углом, глубоко, пробив и толстое сукно пиджака, и жилет. Удар был сильным и точным. Не женская рука. Или рука женщины, доведенной до исступления.