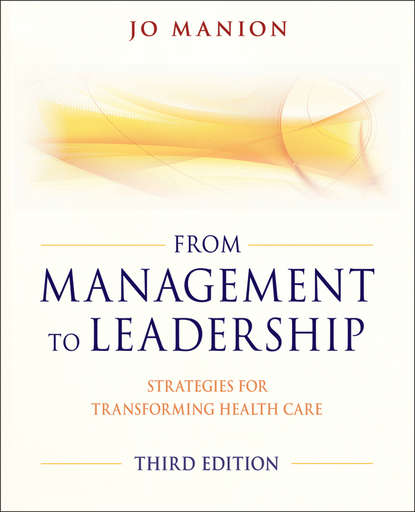Убийство в поезде на Москву

- -
- 100%
- +
Последние слова ударили Воронцова по самому больному месту. Порядок. То, чего ему так не хватало в собственной душе, в его разрушенной жизни, во всей этой трещащей по швам империи. Здесь, в этом стальном ковчеге, хаос сгустился до предела. И ему, именно ему, предлагали снова взять в руки скальпель и попытаться отделить правду от лжи, порядок от безумия. Это была жестокая ирония судьбы, от которой он так устал.
Он обвел взглядом лица пассажиров. Они смотрели на него с разной степенью надежды, любопытства и недоверия. Он был для них теперь не просто попутчиком, а функцией, шансом на спасение. Его старая роль, от которой он с таким трудом избавился, настигла его и снова пыталась втянуть в себя. Он почувствовал знакомую, тоскливую тяжесть ответственности. И вместе с ней – едва заметный, почти постыдный укол профессионального азарта. Головоломка. Невозможная, классическая задача. Убийство в запертой комнате. Вызов, брошенный его интеллекту, который давно питался лишь пылью юридических переводов.
Он вздохнул. Это был вздох человека, смирившегося с неизбежным.
«Хорошо, – сказал он тихо, но в наступившей тишине его слова прозвучали как удар гонга. – Я посмотрю. Но при одном условии. Все будут беспрекословно выполнять мои указания. Абсолютно все. Вы, господин начальник поезда, обеспечите исполнение. А вы, господа, – он обвел взглядом напряженные лица, – останетесь в своих купе до тех пор, пока я не поговорю с каждым из вас лично. Коридор должен быть пуст. Архип, вы проследите».
В его голосе появилась былая власть, спокойная и не терпящая возражений. Люди зашевелились, подчиняясь этой внезапно возникшей силе. Бобров выдохнул с таким облегчением, что, казалось, стал на несколько дюймов ниже.
«Слушаюсь, Константин Арсеньевич! Все, что прикажете! Архип, слышал? Проводи господ по купе. Никому не выходить!»
Пассажиры, бормоча что-то себе под нос, начали расходиться. Последней ушла Анна Хлудова. Она на мгновение задержала на Воронцове свой холодный, непроницаемый взгляд, и ему показалось, что в его глубине мелькнуло нечто похожее на вызов. Затем она молча повернулась и скрылась за дверью своего купе.
Когда коридор опустел, Воронцов повернулся к Боброву.
«Ключ от этого купе. И никого не впускать, пока я не закончу. Никого. Даже вас».
«Понял», – кивнул Бобров, передавая ему тяжелый медный ключ.
Воронцов глубоко вздохнул, собираясь с духом, как пловец перед прыжком в ледяную воду. Он вставил ключ в скважину выломанного замка, толкнул многострадальную дверь и вошел в купе номер семь, плотно притворив ее за собой.
Тишина. Здесь она была иной, чем в коридоре. Густой, тяжелой, пропитанной запахом пролитого коньяка, дорогого одеколона и тем третьим, сладковато-металлическим запахом, который его натренированное обоняние безошибочно определяло как запах остывающей жизни. Первым делом он подошел к окну. Оно было наглухо закрыто. Толстый слой изморози, похожей на слюду, покрывал стекло снаружи, спаивая раму с уплотнителем в единое целое. Воронцов надавил на шпингалет – тот не поддался. Он провел пальцем по стыку рамы – слой пыли был нетронут. Никто не открывал это окно уже очень давно.
Он обернулся и окинул взглядом маленькую комнату, теперь уже не как случайный свидетель, а как профессионал, читающий текст места преступления. Все было пропитано роскошью и смертью. Брюссельский ковер на полу, обивка из темно-зеленого бархата, полированные панели из карельской березы. И посреди всего этого – тело Афанасия Хлудова, грузное, нелепое, уже теряющее свои властные очертания, превращающееся просто в мертвую плоть.
Воронцов опустился на одно колено рядом с телом, стараясь ни на что не наступать. Он не стал трогать труп, лишь внимательно осмотрел его. Глаза, широко открытые, были сухими, зрачки расширены. Приоткрытый рот. На шее и лице начали проступать синеватые пятна – трупное окоченение уже началось, но было еще не полным. Смерть наступила несколько часов назад. Ночью.
Его взгляд сместился на рану. Нож для бумаг с перламутровой ручкой вошел в грудь глубоко, чуть левее центра. Вокруг раны шелковая ткань пижамы пропиталась кровью и застыла твердой коркой. Крови на полу было не так много, как могло показаться. Удар был один, точный и сильный, скорее всего, поразивший сердце. Это не было похоже на борьбу. Скорее, на казнь.
Он поднял глаза на дверь. Выломанный косяк, сорванная цепочка, звенья которой блестели на ковре. И массивный латунный засов, все еще выдвинутый из своего паза. Дверь была заперта изнутри на английский замок, цепочку и засов. Классическая задача, доведенная до абсурда. Убийца не мог выйти через дверь и запереть ее за собой таким образом. Окно было герметично закрыто морозом.
Воронцов медленно поднялся и начал методичный осмотр купе. Он двигался медленно, по спирали, от периферии к центру. Осмотрел стены. Панели из карельской березы были цельными, без видимых швов или люков. Он простучал их костяшками пальцев – звук был глухим, монолитным. Никаких потайных ходов, как в дешевых романах.
Он заглянул под диван. Пыль и ничего больше. Осмотрел небольшой гардероб. Там висел тяжелый дорожный костюм Хлудова и пальто на меху. На полу стояли сапоги. Ничего необычного.
Его внимание привлек столик. Опрокинутый бокал, лужица коньяка. И початая бутылка «Шустовъ». Он осторожно взял бутылку за горлышко через платок. Почти полная. Хлудов выпил всего один бокал перед смертью. Или кто-то пил вместе с ним? На столике стоял только один бокал.
На полу, рядом с телом, лежал дорожный саквояж из толстой кожи с медными углами. Он был закрыт, но не заперт на ключ. Воронцов открыл его. Внутри было аккуратно уложено белье, несессер с бритвенными принадлежностями, пачка деловых бумаг, перевязанных лентой. Ничего, что могло бы пролить свет на случившееся.
Он снова вернулся к телу. На прикроватном столике лежали золотые часы на цепочке, массивный золотой перстень с печаткой и серебряный портсигар. Ценности были не тронуты. Это не было ограблением.
Он осматривал все, каждую мелочь. Пепельницу с одной-единственной раздавленной папиросой. Книгу в дорогом переплете – романы Мопассана – раскрытую на середине. Положение каждой вещи. Но чем дольше он смотрел, тем яснее становилось – здесь нет ничего. Никаких следов борьбы. Никаких отпечатков, кроме тех, что могли принадлежать самому Хлудову. Никаких улик, указывающих на присутствие постороннего. Ничего, что могло бы объяснить, как убийца проник в запертое изнутри купе, нанес смертельный удар и испарился, не оставив после себя ничего, кроме трупа.
Это была идеальная иллюзия. Слишком идеальная. Словно кто-то не просто совершил убийство, а намеренно создал неразрешимую загадку, издеваясь над самой идеей логики. Убийца не просто убил Хлудова. Он убил возможность найти себя.
Воронцов выпрямился, ощущая, как по спине пробежал холодок, не имевший никакого отношения к температуре в вагоне. Он снова почувствовал себя в старой шкуре. Это было знакомое ощущение – стоять посреди хаоса, в котором, он знал, обязан быть скрытый порядок. И от него требовалось лишь одно – найти ту единственную ниточку, потянув за которую, можно было распутать весь этот кровавый клубок.
Он подошел к двери и постоял мгновение, прислушиваясь. За ней, в коридоре, царила тишина. Но он знал, что там, за тонкими перегородками купе, сидят двенадцать человек. Двенадцать напуганных, лгущих, отчаявшихся людей. Один из них был актером, сыгравшим главную роль в этом невозможном спектакле. И теперь ему, Константину Воронцову, бывшему следователю, а ныне человеку без цели и надежды, предстояло стать единственным зрителем, способным отличить правду от гениальной постановки. Он открыл дверь и вышел в коридор, готовый начать допрос. Занавес поднялся для второго акта.
Галерея масок
Вагон-ресторан, еще час назад бывший средоточием тепла и ленивой беседы, превратился в зал дознания, холодный и гулкий. По распоряжению Воронцова лакей убрал со столов все, оставив лишь белые, точно саваны, скатерти. Электрические лампы в абажурах из матового стекла теперь казались неуместными, их свет – слишком мягким и лживым для той цели, которой они должны были служить. Он падал на полированное темное дерево, на сиротливо пустующие стулья, и от этого пространство казалось еще более пустым, вымершим. Снаружи, за толстыми стеклами, продолжался беззвучный и яростный танец метели, бесконечная круговерть белого ничто, служившая идеальным фоном для драмы, разворачивающейся внутри этого стального саркофага.
Воронцов выбрал для себя тот же угловой столик, что и накануне. Это была его наблюдательная позиция, его бастион. Он не садился, а стоял подле, положив руки на спинку стула. В его осанке не было ничего от официального лица, никакой напускной строгости. Была лишь безмерная, почти физическая усталость человека, которого против его воли вернули к ремеслу, оставившему на его душе слишком много шрамов. Он попросил начальника поезда Боброва приглашать свидетелей по одному, начиная с Петра Игнатьевича Забельского. Он хотел начать с самого слабого, по его мнению, звена – с человека, чья маска самообладания вчера треснула первой.
Забельский вошел нерешительно, словно ступая на тонкий лед. Он успел привести себя в порядок: костюм был безупречен, седеющие волосы аккуратно зачесаны, даже траурное выражение лица казалось тщательно отрепетированным. Но руки выдавали его. Они жили своей, отдельной от хозяина жизнью: то теребили манжету, то сжимались в кулаки, то бесцельно шарили по карманам. Воронцов жестом указал ему на стул напротив. Забельский опустился на самый краешек, готовый вскочить в любую секунду.
– Петр Игнатьевич, – начал Воронцов тихо, его голос был лишен металла, он был ровным и почти бесцветным, как окружающий пейзаж. – Мне жаль, что приходится беспокоить вас в такой момент. Но обстоятельства, как вы понимаете, чрезвычайные.
– Да, да, конечно, я все понимаю, – закивал Забельский, его взгляд метнулся к двери, потом к окну, нигде не находя опоры. – Это ужасно… немыслимо… Афанасий Григорьевич… Такой человек…
Он не договорил, его голос прервался на полуслове, которое могло быть и всхлипом, и просто спазмом в горле. Воронцов дал ему время. Он не торопил. Он смотрел на этого человека и видел не скорбящего друга, а банкрота, стоящего над телом своего единственного кредитора.
– Мне нужно восстановить картину вчерашнего вечера. Вы ужинали вместе с господином и госпожой Хлудовыми. Расскажите, что произошло после того, как вагон-ресторан покинул студент Разумов.
– Да, конечно… – Забельский потер лоб кончиками пальцев. – После этой… этой гнусной сцены… Афанасий Григорьевич был, разумеется, не в духе. Он был человеком вспыльчивым, но отходчивым. Выпил еще шампанского… кажется… Потом мы еще немного посидели. Говорили о делах, о планах в Москве.
– О чем именно, если помните?
– Так, общие вещи… Контракт с военным ведомством, поставки сукна… Обычные деловые разговоры. Афанасий Григорьевич был доволен, как все складывается.
Воронцов молча смотрел на него. Он помнил унижение, вылитое Хлудовым на голову партнера. Помнил угрозу разорением. «Доволен, как все складывается». Ложь была настолько неприкрытой, что становилась почти оскорбительной. Это была ложь, рассчитанная на идиота.
– И после этого вы разошлись? – мягко продолжил Воронцов, игнорируя очевидную фальшь.
– Да. Было уже поздно. Мы пожелали друг другу доброй ночи. Анна Павловна ушла к себе чуть раньше, она всегда рано ложится. А мы с Афанасием Григорьевичем вышли почти одновременно. Он пошел в свое купе, номер семь, а я – в свое, номер девять.
– В котором часу это было? Приблизительно.
– Точно не скажу… – Забельский наморщил лоб, изображая напряженную работу памяти. – Думаю, около одиннадцати. Может, чуть позже.
– Вы зашли к себе в купе и больше не выходили?
– Нет. Я сразу лег. Я очень устал, день в Петрограде был тяжелый.
– И вы ничего не слышали? Ни криков, ни звуков борьбы? Ваше купе находится через одно от купе покойного.
– Ничего, – слишком быстро ответил Забельский. – Абсолютно ничего. Я сплю очень крепко. Проснулся уже утром, от шума в коридоре.
Он замолчал, с видимым облегчением считая, что допрос окончен. Воронцов несколько секунд молчал, постукивая кончиком пальца по столу. Тихий, мерный стук действовал Забельскому на нервы. Тот ерзал на стуле, его взгляд снова забегал.
– Петр Игнатьевич, – сказал Воронцов, и в его голосе впервые прорезалась сталь. – Вчера господин Хлудов публично обвинил вас в… скажем так, недобросовестном ведении дел. Он угрожал вам полным разорением. А вы мне сейчас говорите, что обсуждали с ним планы на будущее и он был всем доволен. Вы полагаете, я страдаю потерей памяти?
Забельский побледнел. Маска скорби сползла, обнажив страх.
– Это… это было недоразумение! Афанасий Григорьевич погорячился! Он часто так… вспылит, а потом остынет. Мы бы все уладили в Москве. Это была обычная рабочая размолвка, не более…
– Размолвка, которая могла стоить вам всего вашего состояния, – уточнил Воронцов. – Не кажется ли вам, что это достаточно веский повод для… ответной горячности?
– Что вы такое говорите! – вскрикнул Забельский, вскакивая. – Да как вы смеете! Я… я был ему как брат! Десять лет вместе!
– Сядьте, Петр Игнатьевич. Братья иногда ссорятся. Особенно, когда дело касается больших денег. Так вы утверждаете, что после одиннадцати вечера не покидали своего купе и ничего не слышали?
Забельский, тяжело дыша, снова опустился на стул.
– Да. Утверждаю.
– Благодарю вас. Пока можете быть свободны. Но прошу не покидать свой вагон.
Забельский вышел, не глядя на Воронцова, его походка стала жесткой, почти деревянной. Воронцов смотрел ему вслед. Он не узнал ничего нового, но подтвердил главное. Забельский лгал. Лгал грубо, неумело, панически. Он что-то скрывал, что-то, произошедшее после одиннадцати вечера. Возможно, он возвращался к Хлудову, чтобы умолять или угрожать. Возможно, он просто слышал что-то, о чем боится рассказать. Но его версия событий была карточным домиком, который рухнул от первого же прикосновения.
Следующей он пригласил вдову.
Анна Хлудова вошла в вагон-ресторан, и ее появление изменило саму атмосферу. Если Забельский внес с собой суетливый страх, то она принесла холод. Она была в простом черном платье без единого украшения. Ее светлые волосы были собраны в строгий узел, открывая тонкую шею и чистоту линий лица, которое казалось выточенным из алебастра. На нем не было ни следа слез. Лишь в уголках больших, темных глаз залегла синева, словно от долгой бессонницы. Она двигалась плавно, с отточенным, почти балетным самообладанием. Села напротив Воронцова, сложив на коленях бледные, тонкие руки. Она не ждала вопросов. Она ждала начала представления, в котором ей была отведена главная роль.
– Анна Павловна, примите мои глубочайшие соболезнования, – произнес Воронцов. Слова прозвучали казенно, и он сам это почувствовал. Обычные формулы сочувствия были бессильны перед этой ледяной стеной.
Она лишь чуть склонила голову в ответ.
– Благодарю вас.
Ее голос был тихим, но отчетливым, как звон хрусталя в морозном воздухе.
– Мне необходимо задать вам несколько вопросов. Я понимаю, как это тяжело для вас…
– Задавайте, – прервала она его. – Я понимаю необходимость.
Воронцов на мгновение замолчал, изучая ее. Он видел много скорбящих вдов. Их горе было разным – бурным, тихим, истеричным, показным. Но оно всегда было. Оно проявлялось в опухших веках, в дрожащих руках, в сбивчивой речи, в отчаянной потребности говорить об ушедшем или, наоборот, в неспособности произнести его имя. В Анне Хлудовой не было ничего из этого. Ее горе было совершенным в своем отсутствии.
– Вы ушли из вагона-ресторана раньше вашего мужа и господина Забельского. Что вы делали после?
– Я вернулась в свое купе. У меня разболелась голова от шума и табачного дыма. Я приготовилась ко сну, прочла несколько страниц романа и легла спать.
Ее рассказ был четок и прост. Слишком четок и слишком прост.
– Ваш муж вернулся позже? Он заходил к вам?
– Нет. У нас были смежные купе, седьмое и восьмое, но дверь между ними всегда была заперта. У каждого была своя личная территория. Афанасий часто работал допоздна с бумагами. Он не хотел меня беспокоить.
«Личная территория». Какое холодное, выверенное слово для супружеских отношений.
– Вы приняли что-нибудь от головной боли?
– Да. Несколько капель брома. Я всегда вожу его с собой, я плохо сплю в поездах.
– И вы спали всю ночь, ничего не слышали?
Она подняла на него свои темные, бездонные глаза. Во взгляде не было ни вызова, ни страха. Лишь холодное, отстраненное внимание.
– Я выпила лекарство и уснула почти сразу. Проснулась, когда в коридоре уже кричали. Я ничего не слышала.
Ее алиби было безупречно. Лекарство, крепкий сон. Не подкопаться. Но Воронцов чувствовал, что эта безупречность и есть главный изъян.
– Анна Павловна, ваш муж был… сложным человеком. Вчера у него было несколько резких столкновений с другими пассажирами. У него было много врагов?
Она медленно опустила ресницы, словно обдумывая ответ.
– У сильных людей всегда есть враги, – произнесла она наконец. – Афанасий был очень сильным человеком. Он не терпел слабости ни в себе, ни в других. Многие принимали его прямоту за жестокость.
Она говорила о муже так, словно читала некролог в газете. Ни тени личной эмоции, ни капли тепла. Воронцов решил надавить, но не прямо, а сбоку.
– Он любил вас?
Вопрос был неуместным, жестоким. Но он был необходим. Анна Хлудова не дрогнула. Она лишь чуть крепче сжала пальцы. Это было первое и единственное движение, выдавшее ее напряжение.
– Мой муж оказывал мне то внимание, которое считал должным. Он обеспечил мою семью, он дал мне положение в обществе. Я была ему благодарна.
Благодарна. Не любила, не уважала. Была благодарна. Как бывают благодарны благодетелю, тюремщику, хозяину. Воронцов почувствовал, что за этой фарфоровой маской скрывается бездна ненависти, холодной и выдержанной, как дорогое вино.
– Вы знали о его… делах? О том, как он вел свой бизнес?
– Я жена, а не деловой партнер, – отрезала она. – Мой мир – это дом, светские обязанности. Дела мужа меня не касались.
И снова ложь. Не в словах, а в сути. Эта женщина не была похожа на безмозглую куклу, которую не интересует ничего, кроме нарядов. За ее холодным фасадом чувствовался острый, расчетливый ум. Она не могла не знать, на чем построено их благополучие. Она все знала. И презирала. И мужа, и его деньги.
– Благодарю вас, Анна Павловна. Вы очень помогли.
Она поднялась с той же неспешной грацией, с какой и села. На пороге она на мгновение остановилась, но не обернулась.
– Скажите, – ее голос прозвучал так же ровно, – это было… быстро? Он не мучился?
Это был первый вопрос, в котором прозвучало нечто похожее на человеческий интерес. Но Воронцов уловил фальшивую ноту. Она спрашивала не из сострадания. Она хотела удостовериться. В чем? В том, что палач выполнил свою работу чисто.
– Удар был один. В сердце. Он умер мгновенно.
Она молча кивнула и вышла.
Воронцов остался один. Воздух в вагоне все еще казался холодным. Анна Хлудова была самым сильным противником. Ее ложь была не панической самозащитой, как у Забельского. Ее ложь была ее сутью, ее броней, ее миром. Она не просто скрывала правду. Она жила в выстроенной ею реальности, где она была безутешной вдовой, а не освобожденной узницей. И чтобы добраться до истины, нужно было разбить эту ледяную скульптуру. Но Воронцов не был уверен, что у него хватит сил.
Третьей он решил допросить княгиню Трубецкую. Она не пришла. Вместо этого проводник Архип передал, что ее сиятельство ожидает господина Воронцова в своем купе, если у него есть к ней вопросы. Это был вызов. Воронцов принял его.
Купе княгини было отражением ее самой: следы былой роскоши боролись с очевидной бедностью. Потертый бархат на диване, столик, заваленный книгами во французских переплетах, на стене – миниатюрный портрет в потускневшей раме. Сама княгиня сидела в кресле, прямая, как гвардеец на параде, закутанная в старую, но все еще красивую шаль. Она не предложила Воронцову сесть.
– Сударь мой, – начала она, едва он вошел, ее голос звенел от негодования. – Я не совсем понимаю, на каком основании вы присвоили себе функции полиции. Произошло несчастье, безусловно. Но это дело жандармов, а не частных лиц.
– Княгиня, в поезде нет жандармов, – спокойно ответил Воронцов, оставшись стоять у двери. – А до ближайшей станции, где они могут быть, нам еще много часов пути. За это время убийца, который находится среди нас, может замести следы или совершить новое преступление. Я действую с согласия начальника поезда и в интересах всех присутствующих. Включая вас.
Трубецкая поджала губы. Аргументы были разумны, но само положение дел было для нее оскорбительным.
– Извольте. Какие у вас ко мне могут быть вопросы? Я едва знала этого… господина.
– Тем не менее, вчера вечером у вас с ним произошел довольно резкий разговор. Он касался карточного долга.
Кровь бросилась в лицо княгини, на ее бледных, морщинистых щеках проступили два красных пятна.
– Это было частное дело! И оно не дает никому права…
– Права убивать? – закончил за нее Воронцов. – Разумеется. Но, согласитесь, когда человек, которому вы должны крупную сумму, умирает, это может быть истолковано как удачное для вас стечение обстоятельств.
– Какая низость! – прошептала она. – Вы смеете предполагать… Я, княгиня Трубецкая, из-за денег… Да я бы скорее умерла сама!
– Я ничего не предполагаю, я лишь собираю факты. Сумма была значительной. И господин Хлудов вел себя, мягко говоря, не по-джентльменски. Он унизил вас.
– Этот человек был мужланом! – с яростью произнесла она. – Выскочка, который считал, что за деньги можно купить все, даже честь. Он ошибался. Я бы вернула ему долг до последней копейки. Мое слово всегда было крепче любого векселя.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.