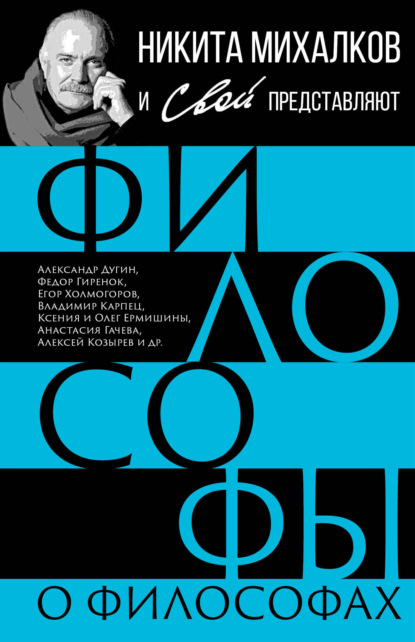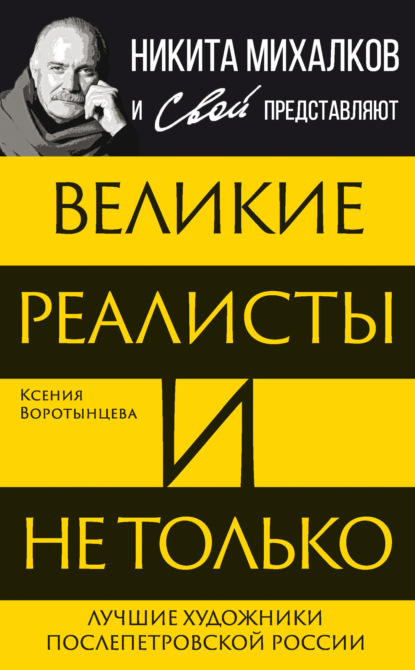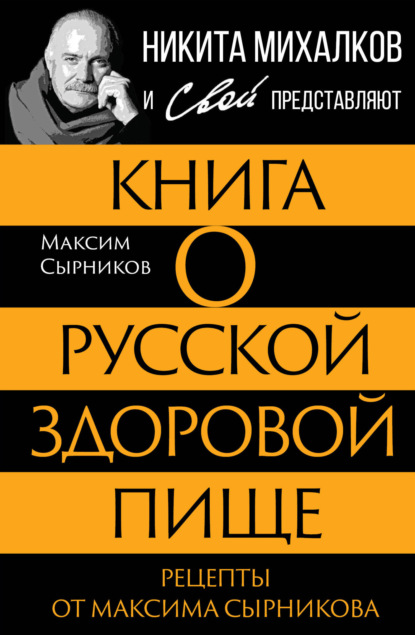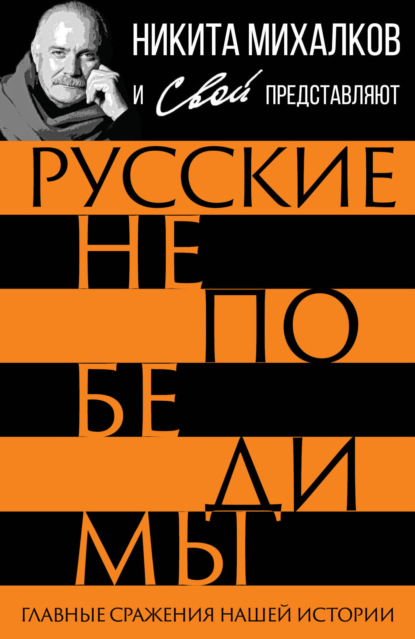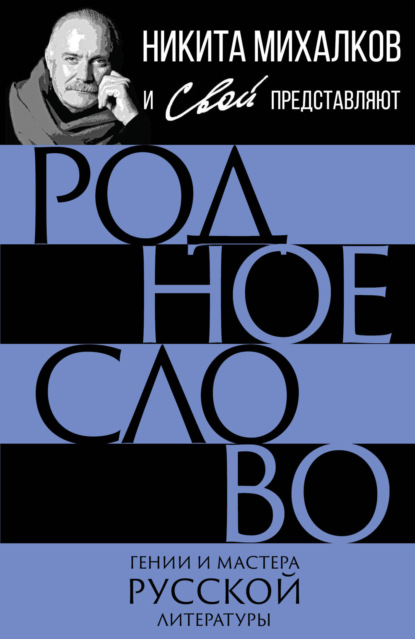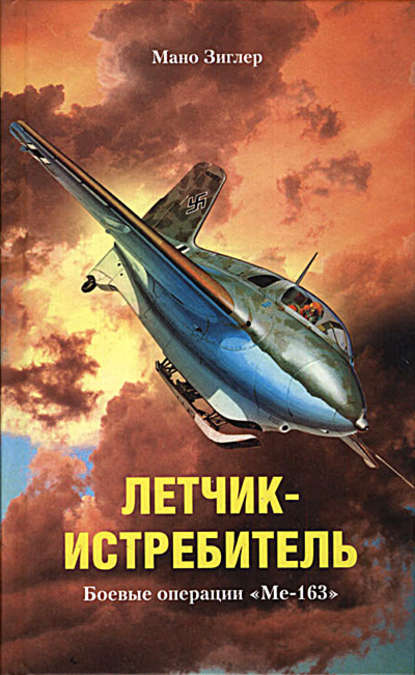Записки русского охотника. Книга для тех, кто любит Родину
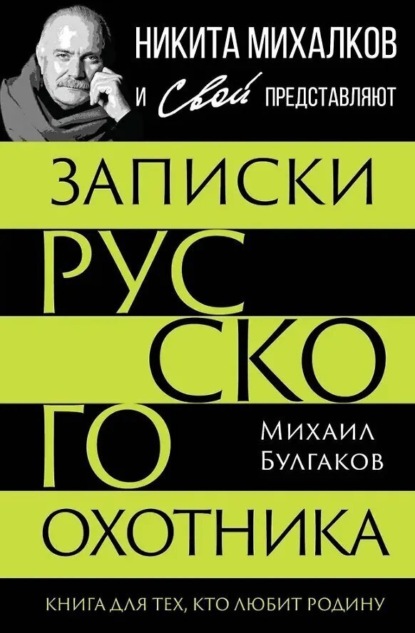
- -
- 100%
- +

Серия «Никита Михалков и журнал «Свой» представляют»

© ООО «Родина», 2025
© Громов С., автор – составитель, 2025
© Булгаков М. В., 2025
По следу Хоря и Калиныча
Первостепенное значение в жизни человека охота утратила лишь в последние, сравнительно сытые столетия. В первом своде законов Руси – «Русской Правде» Ярослава Мудрого – ей был уделен целый раздел. В течение нескольких последующих веков в наших письменных источниках она фигурирует фрагментарно. Например, в «Поучении» Владимира Мономаха или в свидетельствах о царских охотах. Имеются упоминания и о том, что во время похода на Казань войско Ивана Грозного кормилось охотой на диких зверей, а также рыбной ловлей.
Первым подобным литературным произведением на русском языке стал «Урядник сокольничья пути» (1656), приписываемый страстному охотнику царю Алексею Михайловичу. Набожный монарх, помимо государственных дел, немалую часть жизни посвящал странствиям и богомолью. Но едва ли не больше времени он проводил на охоте с ловчими птицами. С особым тщанием вел охотничий дневник и предмет знал досконально.
В первой половине XVIII века в обиходе появились рукописные книги по ведению псовой охоты. Три из них дожили до наших дней. Две хранятся в Российской национальной библиотеке, одна – в частном собрании. Лишь в 1766 году в России появилась первая печатная книга для охотников (с посвящением графу Григорию Орлову) – перевод с немецкого трактата под названием «Наставление человеку, упражняющемуся в охоте, и разговор двух приятелей – пустынника и лесолюба о предметах, касающихся охоты». В XVIII веке было издано семь подобных книг и около двадцати – в первой половине XIX столетия.
Пушкин охотником не был. Почему он, наделенный взрывным темпераментом, к этому делу не пристрастился? На содержание псовой охоты – повального увлечения русского дворянства – у него недоставало ни денег, ни времени. Тем не менее в отъезжем поле с борзыми и гончими он бывал многажды, поучаствовал в травле зайцев и лисиц. Охота нашла отражение не только в «Графе Нулине» и «Дубровском», но и в бесчисленных стихотворных пейзажных зарисовках, эскизах.
Все кардинально изменилось в нашей охотничьей литературе после того, как в 1846 году появились два изящных томика под названием «Псовая охота» Н.М. Реутта. Николай Некрасов тотчас откликнулся на это событие одноименной поэмой, а в качестве эпиграфа выбрал цитату из книги Реутта: «Провидению было угодно создать человека так, что ему нужны внезапные потрясения, восторг, порыв и хотя мгновенное забвенье от житейских забот; иначе, в уединении, грубеет нрав и вселяются разные пороки».
«Записки охотника» накоплялись в течение десяти лет, – писал Тургенев, однако рассказ «Хорь и Калиныч» появился в некрасовском «Современнике» уже в 1847-м. И попался на глаза Сергею Аксакову. Тот не мешкая поделился своим новым замыслом с Гоголем: «Если… я проведу эту зиму в деревне, то начну писать другую книгу – «Об охоте с ружьем». С двенадцатилетнего возраста до тридцатилетнего я был предан охоте страстно, безумно…»
Таким образом, время рождения охотничьего жанра в русской художественной литературе известно – 1846–1847 годы. Все наши писатели-охотники следовали примеру Тургенева и Аксакова с их «Записками». Одного – Тургенева – именовали «первым охотником России», другого – «патриархом русской охоты».
Детство «патриарха» проходило в дедовском имении Ново-Аксаково под Уфой. Грибы и ягоды, рыбалка прямо под окном, ловля бабочек и певчих птиц, плавное течение жизни… Когда Сережа Аксаков первым выстрелом сразил ворону, а на следующий день – утку и двух куликов, удочка, ловчий ястреб и перепелиные дудочки с сетями тотчас были забыты. Мальчик не расставался с ружьем целыми днями, а ночами продолжал грезить охотой. Мать поначалу здорово сердилась, требовала выбросить из головы блажь, забыть про куликов и уток, но в какой-то момент отступилась.
Еще ребенком Аксаков проштудировал немецкое руководство «Совершенный егерь» (в переводе Василия Левшина). Книга – почти средневековая, наполовину «фантастическая», но Сережа выучил описания птиц, а после стал вести свои охотничьи записи. Спустя почти полвека, наткнувшись на детские дневники, он задумался. Охотничьи забавы остались далеко в прошлом, о рыбной ловле он уже рассказал все, что знал, в «Записках об уженье рыбы». И тут как раз подвернулся «Хорь и Калиныч»…
Домашнее чтение отрывков из будущей книги и похвалы слушателей укрепили Аксакова в желании довести замысел до конца. На рукопись ушло три года. Сомнения и недовольство написанным беспрестанно одолевали Сергея Тимофеевича, он боялся «как огня стариковской болтливости». Более всего пробуждению литературного таланта в Аксакове способствовал Гоголь. Наслушавшись устных рассказов старого охотника, тот «подстрекал» его взяться за перо.
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» вышли в начале 1852 года, хронологически опередив на полгода появление «Записок…» Тургенева. Иван Сергеевич не испытывал приступов ревности и откликнулся в печати одним из первых, посодействовав триумфу Аксакова: «Такой книги у нас еще не бывало», «Если бы тетерев мог рассказать о себе, он бы, я уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал Аксаков», «Критиковать нечего или почти нечего».
Книга разошлась с небывалой быстротой. Уже в сентябре 1852-го Аксаков подготовил второе издание. Последовали новые похвалы – от Некрасова, Чернышевского, Вяземского, еще одна восторженная рецензия Тургенева в «Современнике». Анненков указал на «сладостную русскую речь» Аксакова. Старик был смущен и счастлив, а в ответ на просьбы раскрыть «секрет» литературной удачи сослался на Бога, собственную искренность и добрые помыслы.
Некоторая парадоксальность аксаковских «Записок» в том, что их страницы, исполненные любви к животным, написаны охотником. Автору удалось облечь в простую, но по-настоящему художественную форму незамысловатые наблюдения над окружающим миром, превратить описания природы в «пейзажную живопись». Не прав тот, кто в видимой простоте этих картин не замечает искусства, не чувствует в маленьких новеллах о птицах своеобразного поэтического ритма. Сам Аксаков об авторе «Записок» говорил отстраненно: «Это литератор, прикидывающийся простяком». Родной язык он знал превосходно и умело им пользовался, избегая литературных завитушек, риторики и морализаторства. Книгу долгое время рекомендовали студентам на факультетах как естественных наук, так и словесности.
Полтора века тому назад во взаимоотношениях человека и природы острых проблем не существовало (за вычетом разрушительных катаклизмов). Тем интереснее узнать, что звери и птицы для Аксакова были не столько мишенью для выстрела, сколько объектом для познания мира. Вот как трактовал философию своей страсти сам писатель: рыбная ловля и охота воспитывают в человеке благородные чувства, закаляют его волю, характер, сближают людей не только с природой, но и между собой и, таким образом, способствуют некоему духовному оздоровлению общества. Заявление для нынешних моралистов более чем сомнительное, но во времена Аксакова оно ни малейших споров не вызывало.
Если нынче, не взглянув на обложку какой-то современной книги, раскрыть ее на любой странице и попытаться назвать имя автора, то задача окажется невыполнимой. Иное дело – проза Аксакова. Ее язык, стилистические особенности проступают в каждой фразе, и спутать их с почерком другого мастера невозможно. Подобные произведения уже никем не будут написаны: навсегда утрачено мироощущение человека, чувствовавшего себя неотъемлемой частью мироздания, умер и сам язык равноправного общения с природой. Но в XIX веке влияние аксаковской литературной эстетики было велико, и появилась целая плеяда его последователей.
Тургенев, в отличие от Аксакова, родился в срединной России, хотя тогдашний усадебный быт мало чем отличался в разных уголках России. Даже после того как родители купили дом в Москве, летние каникулы ученик Тургенев непременно проводил в Спасском. Его воспитанием занимался дядя, признанный в округе знаток лошадей и охотничьих собак. Дядя Николя стал прототипом добродушного помещика Чертопханова в «Записках охотника».
Мать Вани, прежде смотревшая на охотников как на лоботрясов, вдруг прониклась увлечением сына и даже получала огромное удовольствие во время травли зайцев собаками. Во время путешествия сына по Европе она, дразня, постоянно подогревала его интерес к охоте в письмах: «Ты так засмотрелся чужеземных видов, что мы не видим в тебе более охотника… Наняли двух егерей. Наполь твой очень похудел, но, верно, будет славная собака. Да только не могу ласкать, слюняв очень… По нас дело другое грустить, а по России грустить, любуясь на Швейцарию, это видно, что ты конопляничек – домосед… Слышал ли ты где выстрел? Твоя любимая охота была охотиться. А мы-то, по милости твоего Наполя, в дичине можно бы зарыть не только нас, а и Спасский домик. Я тебе писала, что дичины было и есть даже в самом Спасском». После страшного пожара в имении сгорело почти все добро, уцелело немногое, но мать спешила обрадовать сына в письме, что его любимое ружье спасли, вынесли из огня.
Молодой Тургенев, вернувшись из Европы в Россию, несколько лет не расставался с ружьем и собакой, в охотничьих скитаниях вынашивал сюжеты своих первых рассказов.
В его творческом наследии множество романов и повестей, пробовал он свои силы в драматургии и литературной критике, но самая долгая и счастливая жизнь была уготована именно «Запискам охотника». С их появлением начали «охотиться» и за автором. Заманивал под свои знамена Белинский, пытался всучить литературный топор в крепкие тургеневские руки Некрасов. Славянофилы Аксаковы поспешили обрядить аристократа Тургенева в национальные сермяжные одежды. Однако старший из них еще в 1849 году писал сыну Ивану: «На днях познакомился с Тургеневым, и он мне понравился; может быть, его убеждения ложны или по крайней мере противны моим…» Отношения семейства Аксаковых с Тургеневым могли и вовсе не сложиться, но Сергей Тимофеевич был уверен, что охотник «никак не может быть скверным человеком».
Престарелый Аксаков повесил ружье на стену задолго до своей кончины. У Тургенева сложился охотничий кружок из коллег помоложе – Некрасова, Фета, Островского, Льва Толстого, а также художника Соколова – отличного иллюстратора «Записок охотника». В такой компании, пожалуй, даже противника охоты заставили бы залезть в болото с ружьем в поисках бекасов и дупелей, а затем написать об этом хотя бы рассказ.
Тургенев не стал эксплуатировать излюбленную тему в своих будущих произведениях, однако до смерти был беззаветно предан охоте.
Искушенный читатель легко заметит основное различие между тургеневскими и аксаковскими «Записками охотника». У Тургенева на первом плане не сама охота, а события, так или иначе с ней связанные, а зачастую и весьма отдаленные от нее, хотя главный герой облачен в болотные сапоги и бродит с ружьем по долинам и по взгорьям. У Аксакова же преобладают переживания героя в процессе выслеживания, добычи птицы или зверя, описания их повадок, а все прочее служит фоном.
Аксаковская ветвь дала множество здоровых побегов. К примеру, энциклопедические «Записки охотника Восточной Сибири» (1867) А.А. Черкасова послужили Далю одним из источников при составлении «Толкового словаря русского языка». Более того, эта книга широко использовалась в работе над «Словарем современного русского литературного языка», изданным Академией наук уже в эру покорения космоса.
«Записки псового охотника Симбирской губернии» (1876) П.М. Мачеварианова, «Записки сибирского Немврода» (1880), охотничьи книги Л.Н. Вакселя, Н.В. Киреевского, Н.Н. Воронцова-Вельяминова, Е.С. Прокудина-Горского и других писателей-охотников были написаны под влиянием книги Аксакова. Его последователи малоизвестны среди обычной читающей публики, однако их книги по-прежнему пользуются спросом у читателей-охотников. Им интересно взглянуть на прошлое России, на ее людей и их быт глазами той эпохи.
К «Запискам охотника» аксаковского толка вплотную примыкала специальная охотничья литература, созданная не литераторами, но специалистами. Ее лучшие образцы, например многотомные труды Л.П. Сабанеева, существенно обогатили российскую культуру. Со временем вошел в оборот термин «Деловая проза», в этот раздел входит литература по биологии птиц и зверей, географии их распространения, охотничьему делу, собаководству и оружию.
К специальной охотничьей литературе традиционно относят и соответствующую периодику. Во многих дореволюционных журналах и газетах видное место отводилось охотничьим рассказам, очеркам и воспоминаниям. В толстом сабанеевском журнале «Природа и охота» среди авторов можно встретить самые неожиданные имена – Чехова, Рериха, Хлебникова…
Тургеневская ветвь развивалась не менее бурно. Ее (преимущественно в некрасовском «Современнике») представляли не только вышеупомянутые Некрасов, Толстой, Островский и Фет, но и поэты А.К. Толстой, Л.А. Мей, Н.В. Кукольник, писатели Н.А. Основский, Г.П. Данилевский, Н.С. Лесков, В.М. Гаршин, П.Д. Боборыкин и многие другие.
Следующее поколение заядлых охотников включает в себя отнюдь не менее громкие имена: Мамин-Сибиряк, Чехов, Бунин, Куприн, Шишков, Зайцев… Все они, конечно же, искренне почитали отцов некогда популярнейшего жанра.
У Святого озера
В эпоху перестроечных «тектонических сдвигов» мы с приятелями, бывало, укрывались от потрясений в заветной глуши на границе Вологодской и Архангельской губерний – в урочище Замох, где в сталинскую пору был заложен лагерь для заключенных-лесорубов. От него остались лишь гнилушки. Рядом с ними, на высоком месте, мы срубили избу.
По неприметной лесной тропке из бывшего лагпункта Замох можно было дойти до деревушки с аналогичным названием. Тропа эта не то чтобы тайная, однако неторная, и открывалась она не всем. Приблудному человеку или беглому из мест не столь отдаленных сбиться с нее – пара пустяков. Лесные же люди пользовались ею аккуратно: не растаптывали, не бегали по ней без дела. Только по надобности. Когда-то вся дорога занимала полтора часа, и никакой усталости не чувствовалось. Тропинка выныривала из леса на овсяное поле, а уж оттуда – рукой подать до виднеющихся на высоком холме изб.
Засеянное овсом поле вдавалось в лес клином и не выкашивалось до наступления заморозков. Окрестные медведи, не чуя подвоха, воспринимали сладкий овес как подарок судьбы, усердно посещали угол поля, превратив его в «медвежий». Заявлялись вечером, подозрительно оглядывались по сторонам, тщательно принюхивались и прислушивались к доносящимся со стороны деревни запахам и звукам. Откуда им было знать, что охотники притаились совсем с другой стороны, в сооруженном на краю леса лабазе. Если зверь был самонадеянным, не соблюдал предосторожности, то охота заканчивалась быстро. Оставалось сходить в деревню за подводой и доставить добычу домой.
От Замоха еще час ходьбы до Тавеньги – нескольких деревень, разбросанных на холмах и в лощинах. Когда Замох опустел, кроме пастуха с тавеньгскими коровами да охотников, сюда никто не заглядывал. Вся оставленная в домах утварь аккуратно лежала на полках и широченных скамьях вдоль стен.
Разграбление брошенного жилья началось не сразу, совершалось тайно, исподволь. Первым сигналом послужило одновременное исчезновение из всех домов главного атрибута русской избы – икон. По величине киотов, занимавших красные углы с пола до потолка, и количеству пустующих гнезд от выломанных образов люди несведущие, наверное, могли предположить, что в деревне жили сплошь религиозные фанатики. Хотя полтора-два десятка икон для старой северной избы – никакое не исключение, а скорее, правило. Передавались образа из поколения в поколение, накапливались веками.
Уже после грабежа рассказывали нам обитатели Тавеньги, что повадился каждое лето наезжать в здешние места «за рыжиками» некий столичный профессор, человек обходительный и приятный, этакий современный Чичиков. Расспрашивал, кто да как жил на Замохе, чьи теперь избы и добро в них. «Ничьи. Добро? Да какое ж там добро… Нет, никто не охраняет, от кого выставлять охрану-то?» – отвечали доверчивые северяне любознательному гостю. А председатель сельсовета великодушно распорядился в заброшенную деревню на лето подключать электроэнергию.
Днем профессор бродил с корзиной по округе, а вечерами, ни от кого не таясь, при свете ярких лампочек занимался неторопливыми изысканиями и приватизацией бесхозного деревенского добра. Он был не чужд охотничьим утехам, любил прохаживаться с ружьишком вокруг деревни, слишком, однако, от нее не отдаляясь. Мы изредка встречали его. Не догадываясь о причинах профессорского домоседства, приглашали в гости на другой Замох – лагерный, но встречали вежливый неизменный отказ. Напрашиваться в гости к нему не считали нужным. Да и не принята здесь подобная назойливость.
Обстоятельства сложились так, что несколько лет мы не посещали Замох и уже стали забывать о любителе грибных прогулок, но, вновь очутившись неподалеку от одинокой угасавшей деревушки, вспомнили его недобрым словом. Произошло это так.
Дорога на Тавеньгу проходит по торфяникам, разбухающим от осенних дождей в непроходимое студенистое месиво. Для охотников понятие «непроходимое» относительно, а то, что на торфяниках постоянно держится болотная дичь, – истина абсолютная. Поэтому мы с приятелем, оглядев болото, не задумываясь, погрузились в хлюпающую топь.
Не ожидавшие такого вторжения бекасы и другие, менее знаменитые кулики поднимались из-под самых ног, и наша охотничья прыть была вознаграждена сполна. Мы углубились в болото далеко, когда поняли, что угодили в старые торфоразработки с коварными ямами и скользкими буграми. Стало ясно, что пора выбираться из царства грязи… Вдруг на одном из бугров я заприметил непонятную штуковину, похожую на щит. Подошли ближе и увидели: на макушке торфяной кучи стоит огромная, заляпанная шматьями грязи икона. Сзади кто-то подпер ее крепкими кольями так, что она занимала вертикальное положение.
Тут-то и вспомнили профессора-грибника, подивившись тому, как тщедушный мужичонка мог утащить этакую тяжесть. Оставалось предположить, что профессор сумел лишь припрятать икону рядышком с деревней, а уж затем клад обнаружил кто-то другой. И этот «кто-то» оказался охотником, вернее, человеком с ружьем…
На иконе стоял в полный рост на земной тверди седобородый апостол Иоанн. В руках – раскрытое Евангелие и перо. Поверху – лазурное небо, сливающееся с настоящим так, что святой казался живым человеком, невесть как оказавшимся на болоте. Глаза евангелиста глядели как-то недобро, осуждающе. А ведь Иоанн и в проповедях, и в писаниях своих всегда звал людей к смирению и прощению.
Икона была сколочена из трех широких сосновых досок, закругленных по краям простым топором и скрепленных шпонками. Весила она больше пуда, но, похоже, носильщик оказался дюжим малым – тащил ее от Замоха добрых две версты. У торфяников, там, где густая жижа стала доходить до колен, силы его иссякли. Может, и другой наворованный скарб тяготил плечи. И вот от бессилия, а вернее, по злобе от этого бессилия человек поставил икону на верх торфяной кучи и снял с плеча ружье…
Мародер был хорошим стрелком: заряд свинцовых горошин попал точно в цель. Однако советская картечь, кривая, некруглой формы дала неправильную осыпь (обнесла) – несколько штук улетели в голубое иконное небо за спиной Иоанна, оставив сквозные отверстия. Три картечины прошили навылет твердь под ногами святого, и, казалось, Всевышний отвел угрозу от своего любимого ученика. Мы стали разглядывать икону пристальнее и увидели, что одна картечина все-таки угодила в грудь апостола, в любовно выписанные безвестным изографом киноварные складки одежд. Картечина, единственная из всего заряда, не пробила икону насквозь, а застряла в ней как раз в том месте, где у Иоанна находилось сердце.
Две тысячи лет назад жил Иоанн Богослов, и все эти двадцать веков люди, часто безграмотные, наизусть заучивали его заветы жить в мире и согласии, «не подражать злу». Неизвестно, сколько времени простоял апостол на торфянике, омываемый дождями и засыпаемый снегом. Отслаивающиеся чешуйки крепкой старой краски показывали, что не месяц и не два. Может быть, и не один год. Тридцать километров нес я пудового «апостола» по глухому бездорожью, не оставив его мишенью для других людей с ружьями. И теперь он часто смотрит на меня своими ясными голубыми глазами. С годами кажется, что в глазах его все меньше горечи и укоризны, взгляд становится все добрее.
Тогда же, на болоте, впору было усомниться в нравственной чистоте и простой человеческой доброте северных охотников, но… В тот день, когда мы обнаружили икону, в нашу избу дождливой ночью, откуда ни возьмись (чем не перст судьбы!) заявился незнакомый, промокший до нитки житель далекой деревни, о существовании которой мы и не подозревали. Разыскивал увязавшуюся за лосем и не возвратившуюся домой собаку. За три дня в поисках пропавшего друга охотник отмерил, наверное, добрую сотню километров, заглянул во все рыбацкие избушки и охотничьи заимки, обшарил закоулки и тупиковые усы, ночевал в лесу у костра.
Чем утешить такого бедолагу? Сочувственное слово, задушевный разговор да ведерный чайник крепкого чаю с кислющей клюквой – вот и весь незатейливый арсенал врачующих душу лекарственных средств. Наш новый знакомый, предавшись воспоминаниям, понемногу забылся и даже начал шутить. Тем временем за окошком уже забрезжил рассвет, невеселые думы заставили его собрать нехитрые пожитки и отправиться в путь, а мы дружно пожелали ему встретить Дымка на пороге дома. По всему было видно: добрейшей души человек, такой уж точно не стал бы ни со зла, ни по какой другой причине целиться в святой образ…
Чаепитие наше возобновляется, сон откладывается до лучших времен. И все опять говорят о собаках. Свойские кобели тут же улавливают суть разговора, благодарно располагаются у ног хозяев. Слава Богу, они целехоньки, все на месте, им достаются щедрые ласки и кусочки сладчайшего, крепкого, как кость, сахара. Поскольку сон с повестки дня снят, то пора отправляться на охоту. Но сначала надо сделать выбор. Тут ведь какое дело? Хочется и глухарей на камушках проведать, и хариусов поудить, и на овсах побывать…
Кстати, об овсах и прочей подобной специфике. Язык охотников – статья особая. Пусть-ка попробует обычный человек, не охотник, вникнуть, положим, в разговор любителей гончих, обсуждающих свои, известные только им, «собачьи» проблемы. Поймет ли посторонний, о чем идет речь? Что это за гончие такие – паратые, мороватые, пешие, валкие, заемистые и еще бог весть какие? А знает ли этот посторонний, что пороши бывают короткие, печатные – мать честная! – слепые и – о ужас! – мертвые?
Словесная изощренность охотников, упорно не желающих пользоваться понятными для всех выражениями, простирается далеко в заповедные дебри русского языка. И нет надежды, что профессор, будь он хоть трижды доктором наук (но не охотником), вдруг сообразит, что значит охотиться на лунках, в узерку, на высыпках, с круговой уткой. Или вот еще – на грязи. На какой-такой грязи? Да на обычной. А объект охоты – вальдшнеп, красивая и благородная птица, королевская дичь.
Охота на грязи известна давным-давно: более двухсот лет назад Василий Левшин в «Совершенном егере» наставительно рекомендовал охотникам выслеживать слуку (вальдшнепа) на «коровьих прогонах и в капустных огородах», а далее доверительно сообщал, что осенью вальдшнепы «…стадятся, и где увидишь одну слуку, там, конечно, есть их несколько». Вообще говоря, «грязь» – в охотничьем смысле слово собирательное. Так называют и сырые, с разбитыми колеями лесовозные дороги, и иссеченные канавами да ямами вырубки, и мелкие мочажины с пологими грунтовыми, не заросшими травой берегами. Знающий охотник обязательно заглянет на набитые скотом лужайки у лесного водопоя – нет ли здесь долгоносых?
Когда-то жители деревень на Тавеньге держали скотину. Тучное стадо, подъевшее траву на тамошних лугах, перегонялось все дальше и дальше, пока не оказывалось в деревне Замох. Деревушка к тому времени уже обезлюдела, и коровам не возбранялось щипать сочную траву, одичавшие цветы в палисадниках, тереться толстыми боками об углы домов. Самые любопытные буренки, толкнув рогами незапертые двери и споткнувшись о порог, заглядывали внутрь домов. Шумно втягивали чуткими подвижными ноздрями воздух, пытаясь уловить привычный домашний запах. Не учуяв, укоризненно качали головами. Пастух коров не отваживал. Скоро они сами перестали интересоваться холодными, пустыми домами и, позвякивая колокольцами, мирно прохаживались по деревне. Когда животные шли стадом, мелодичное многоголосие оглашало округу.