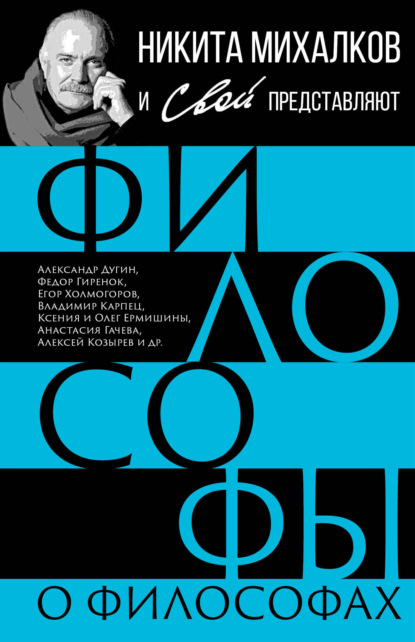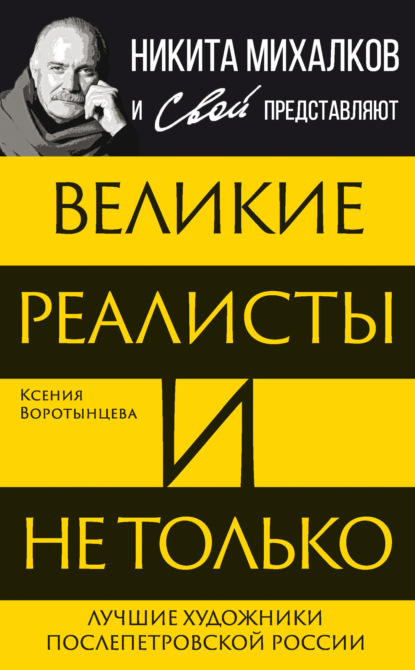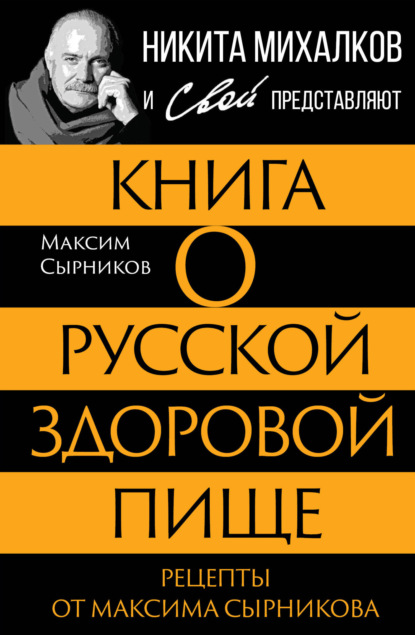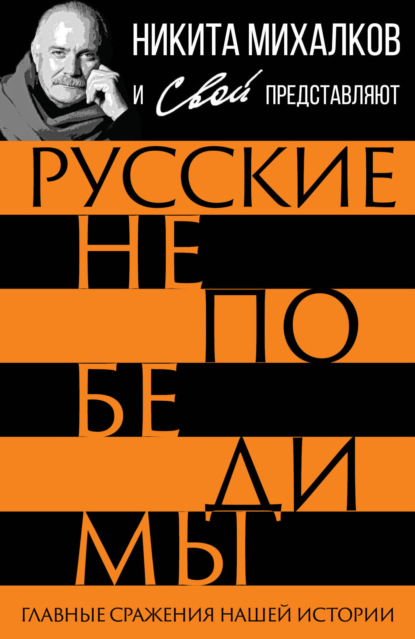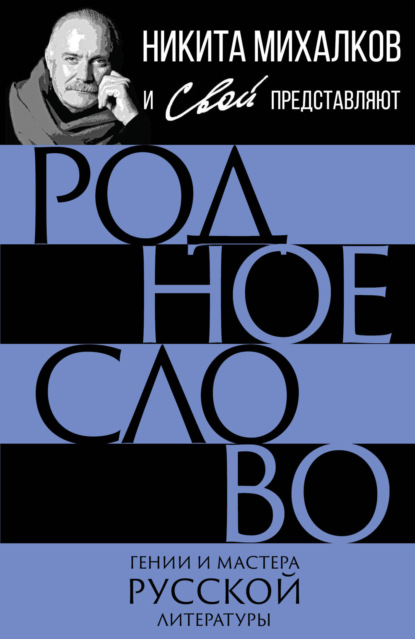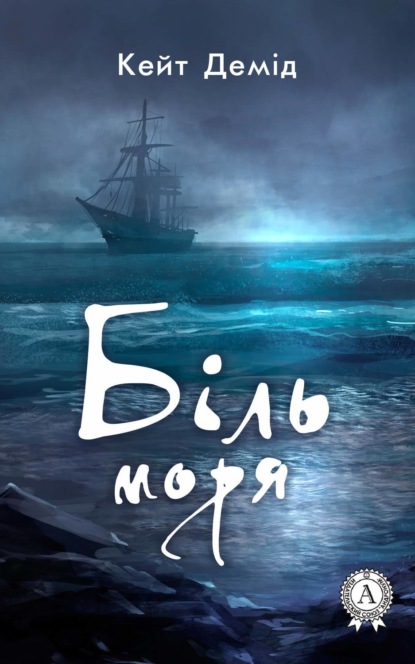Записки русского охотника. Книга для тех, кто любит Родину
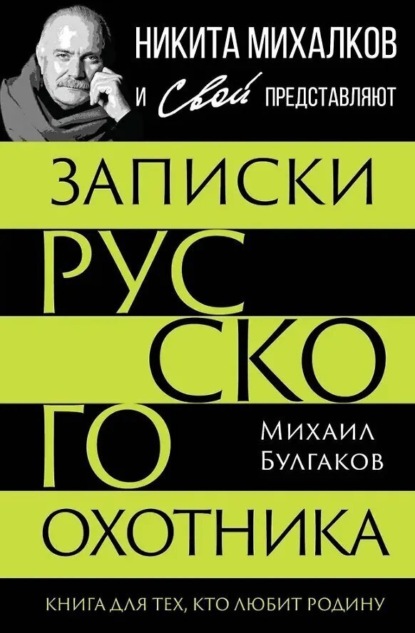
- -
- 100%
- +
С годами на их шеях все чаще стали болтаться обыкновенные консервные банки с ржавыми болтами-висюльками, издающими тупое и пустое «бряк-звяк». Увы-увы, коров становилось все меньше, а потом мы и вовсе не увидели пастуха со стадом возле деревни. Не думаю, чтобы перевелись пастухи…
К этой жалости примешивалось еще одно разочарование, имеющее чисто охотничий смысл. Помните, что Левшин советовал охотникам еще в XVIII веке (об этом, кстати, упоминалось и в одном из недавних номеров «Своего»)? На коровьих прогонах надо искать вальдшнепов! Пока стадо месило берега протекающего в низине ручья, мы всегда следовали совету древнего наставника, проверяли, не ошибся ли он. Нет, не ошибся: здесь вальдшнепы, куда ж им деться! Стоило только стаду, особенно в осенний день, уйти с дневки, как они мигом оказывались на месте: надо тщательно изрешетить клювами-шильцами мягкую, не успевшую покрыться корочкой грязь. Не преминет кулик погрузить длинный клюв и в навозную кучу, в которой быстро заводятся всякие букашки. Вальдшнеп же – птица капризная, своенравная, и охота на него редко бывает добычливой.
Охотники – люди бодрые, неунывающие, даже оставшись без добычи, не падают духом: не повезло в этот раз, повезет в другой. На тех же овсах, до которых подать рукой, вечерними зорями любят жировать утки. Человек с ружьем, притаившийся в кустарнике на краю поля, едва успевает поворачивать голову за проносящимися из-за леса кряквами, главными ценителями спелых колосьев. Одиночный выстрел или дуплет приводит уток в замешательство. Они мгновенно улетают обратно на реку. Утиный язык слишком беден, рассказать сородичам о творящемся на овсах безобразии утки не умеют. А терпеливому охотнику торопиться некуда, уходить домой без добычи он не собирается – через некоторое время со стороны овсяного поля снова раздаются выстрелы.
Конечно, не всегда выпадает удача подкрасться к сторожким на открытом месте птицам. Лучше прийти пораньше и дождаться сумерек где-нибудь поблизости от озера, любуясь тихим закатным пейзажем.
Посидеть и отдохнуть на вершине холма близ Святого озера, рядом с одной из старых тавеньгских деревень, приятно и сейчас. Овальная чаша водоема расположена внизу, и обычной для таких мест осенней холодной сырости в воздухе не чувствуется. Могучий угор так велик, до того возвысился над приозерьем, что можно отменно разглядеть летящих высоко журавлей, а их курлыканье кажется особенно близким и звонким. Люди никогда не устанут смотреть на вереницы больших птиц, с печальными криками покидающих родные края. Как тысячу лет назад, услышав с заоблачных высот трубные звуки, человек на время останавливается в пути и, направив взор к небу, долго смотрит на отлетающих журавлей. Старая бабка, которой и голову-то тяжело поднять, и та, опершись на суковатую палку, из-под своей тонкой, насквозь просвечиваемой солнцем ладошки силится разглядеть плывущую в вышине стаю величавых птиц.
…Журавли улетают все дальше. Уже только слабые звуки доносятся с южной стороны неба. Возвышенный строй мыслей исчезает, думы мельчают, прижимаясь к грешной земле. А та вокруг покрыта обломками некогда величественного храма. Один из них, не похожий на другие, я взял однажды в руки. Он оказался потемневшим куском металла с острыми краями. На поверхности с трудом угадывалась литая надпись «…а 7125-го генва…». 7125 год – старое русское летоисчисление. Стало быть, колокол, обломок которого я держал в руках, был отлит в январе 1617-го. В это время на Руси правил Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых. Лишь спустя полвека появится на свет его внук Петр Первый, через почти двести лет выйдут на Сенатскую площадь декабристы, и через триста толпа солдат и матросов ворвется в Зимний.
Три века мерный гул колокола на Святом озере возносился к небу. Плавно опускаясь с угора, плыл над водной гладью, окрестными лесами и долами. Три долгих столетия божественный голос будил, оберегал и спасал души людей. Усомнившихся же в его высоком предназначении, сбросивших наземь и разбивших колокол на куски, судя по всему, не уберег, не спас.
Мавра Акимовна
С утра до обеда Мавра Акимовна прокапывала в высоких сугробах дорожку к колодцу. С противоположного конца деревни к воде пробивалась Александра Ульяновна, бабка Шура. И когда обе женщины в изнеможении добрались до заветной цели, у них не было сил поздороваться. Это малозначительное, хотя и не лишенное некоторой кинематографичности событие произошло в одну из зим начала девяностых, в небольшой архангельской деревушке. В ней на тот момент остались помирать, но не покинули отчий кров всего две пожилые женщины…
Сентябрьским погожим днем Мавра Акимовна в мельчайших деталях вспоминает свои зимние трудности, рассказывает нам с приятелем о «дороге жизни», и в ее голосе нет ни обиды, ни горечи. «Ну, да ладно, чо это я нюни распустила, – спохватывается она, – айдате в дом, угощать гостей буду».
Мы встаем со скамейки в палисаднике и идем в избу. Распаковываем походные мешки. Столичные подарки, дорогие и весомые в Москве и в пути, на широком столе северной двухэтажной избы-крепости превратились в жалкие кулечки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.