Пожиратели снов
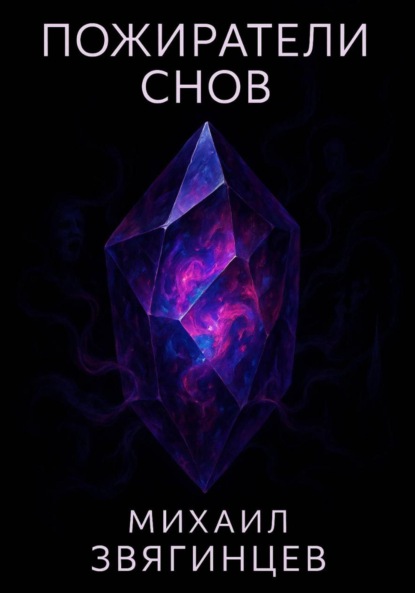
- -
- 100%
- +
Я заставила себя встать. Движения, всегда выверенные и экономичные, стали рваными. Мое тело ощущалось одновременно и моим, и чужим – как дорогая, но незнакомая одежда. Подойдя к панорамному окну, я посмотрела на Оникс. Внизу, под вечным смогом, переливался неоновый океан Подбрюшья, а вверху черные шпили Игл пронзали искусственные сумерки. Прежде этот вид дарил мне ощущение контроля, отстраненного превосходства. Теперь он вызывал лишь глухое раздражение. Бессмысленная геометрия клетки.
Клетка? Мысль прозвучала в моей голове с едкой насмешкой. Ты называешь это клеткой, позолоченная пташка? Ты даже не знаешь, что такое прутья.
Я вздрогнула, обхватив себя руками. Голос. Он никуда не делся. За ночь он не растворился, не оказался побочным эффектом ментальной перегрузки. Он укоренился. Устроился где-то за глазными яблоками, в самой сердцевине моего сознания, и теперь наблюдал за миром моими глазами.
Я проигнорировала его. Я должна была это сделать. Контроль. Нужно было вернуть контроль. Я направилась на кухню – уменьшенную, бытовую копию моей лаборатории, такую же стерильную и функциональную. Автоматический нутри-синтезатор выдал порцию серой, безвкусной, но идеально сбалансированной белковой пасты. Я ела ее каждое утро на протяжении десяти лет. Это было топливо, не более.
Ты это ешь? Голос был пропитан таким неподдельным отвращением, что я едва не выронила ложку. Это даже не еда. Это… оскорбление для языка. Я помню вкус жареного мяса с уличного лотка. Жирного, с дымком, от которого слезятся глаза. Помню, как Лия смеялась, когда я обжегся, пытаясь откусить слишком большой кусок.
Воспоминание было таким ярким, что я почувствовала фантомный вкус специй и дыма на языке, и это смешалось с пресной пастой во рту, создавая тошнотворную комбинацию. Я с силой сглотнула.
– Замолчи, – прошептала я в пустоту кухни.
Ответом был тихий, внутренний смех. Я не могу замолчать. Я – это ты. Та часть тебя, которую ты так долго морила голодом.
Мне нужно было имя для него. Имя – это ярлык. Классификация. Первый шаг к контролю над неизвестным. Он был не просто голосом. Он был тенью братоубийцы в саду моего разума. Он пришел и убил тишину, убил ту Лилит, которой я была вчера. Каин. Да. Это имя подходило. Оно было тяжелым, как могильный камень, и острым, как нож.
Каин? – мысленно бросила я ему, вкладывая в это слово все свое презрение. Ты дал мне имя. Как мило. Это ничего не изменит, шеф-повар. Ярлык на банке с ядом не делает его менее смертельным.
Я с грохотом поставила тарелку в утилизатор. Хватит. Нужно работать. Работа – мой щит, моя крепость. В стенах лаборатории я была богиней, повелительницей эфемерного. Там его шепот утонет в гудении дистилляторов.
Но я ошиблась. В лаборатории стало только хуже.
Святилище моего порядка было осквернено его присутствием. Я смотрела на свои инструменты, и в голове вспыхивали образы: вот этот скальпель похож на мастихин, которым он смешивал краски, а изгиб стеклянной колбы напоминает линию ее плеча. Мои руки, всегда такие уверенные, двигались с едва заметной заминкой. Я готовила заказ для одного из членов совета Гильдии – сон о безмятежном покое на берегу несуществующего океана. Простая, почти рутинная работа. Экстракт чистого умиротворения, эссенция морского бриза, капля концентрированного солнечного тепла.
Я работала на автомате, но Каин комментировал каждый мой шаг.
Посмотри на себя. Алхимик, превращающий золото чужих душ в свинцовые монеты. Ты берешь их самые яркие мгновения и разбавляешь, пастеризуешь, кастрируешь, пока от них не останется лишь безопасная, беззубая эмоция для импотентов из Игл.
– Это искусство, – прошипела я сквозь стиснутые зубы, калибруя плотность эссенции.
Нет. Это таксидермия. Ты набиваешь опилками чучела чувств. Искусство – это когда ты берешь боль и грязь и превращаешь их в нечто такое, от чего у других останавливается сердце. Искусство – это то, что делал я.
Его слова были ядом, проникавшим под кожу. Я пыталась их игнорировать, сосредоточившись на финальной стадии. Нужно было добавить стабилизатор, закрепить «букет». Но рядом со стабилизатором стояла другая колба. Крошечная, с почти черной жидкостью внутри. «Эссенция покинутости». Я использовала ее микродозы для создания сложных драматических композиций. Она придавала любому сну привкус экзистенциальной тоски. Я никогда не использовала ее для заказов, подобных этому. Это было бы грубой ошибкой, профессиональным самоубийством.
И в этот момент моя рука дрогнула. Или нет. Она не дрогнула. Она двинулась. Плавно, уверенно, словно ведомая чужой волей. Мои пальцы взяли пипетку, набрали крошечную, почти невидимую каплю черной жидкости.
Давай, – прошептал Каин в моей голове. Добавь немного правды в эту сладкую ложь. Пусть он, засыпая на своих шелках, на долю секунды почувствует ледяное дыхание вселенского одиночества. Пусть его океан покажется ему бездонной могилой. Это будет честно.
Я смотрела на свою руку, как на чужую. Я видела, как пипетка склоняется над бокалом с золотистой эссенцией покоя. Мой разум кричал «нет», но тело не слушалось. Был момент чистого, животного ужаса – ужаса потери контроля над собственными конечностями. Капля сорвалась вниз.
Она упала в золотую жидкость и растворилась без следа, но я знала, что она там. Яд в бокале с вином. Я смотрела на готовый «коктейль», и меня охватило странное, извращенное чувство. Смесь ужаса и… злорадного удовлетворения. Я только что испортила дорогой заказ. Я нарушила свой главный принцип – чистоту и точность. Я совершила диверсию против собственного мастерства. И это было… волнующе. Словно первая трещина на гладкой, безупречной поверхности фарфоровой куклы.
Я запечатала флакон и отправила его курьером, не проведя финальный тест. Я не хотела знать, что именно я создала.
Остаток дня я провела в оцепенении, пытаясь медитировать, вернуть себе душевное равновесие. Я концентрировалась на дыхании, но каждый вдох казался чужим, каждый выдох – его вздохом. Он молчал, но его молчание было тяжелым, насыщенным, как затишье перед бурей. Он ждал. Он знал, что сломал что-то во мне, и теперь просто наблюдал, как рушится остальная конструкция.
Вечером я включила инфо-панель, просто чтобы заглушить тишину. Бесплотный голос диктора вещал о котировках на рынке снов, о новом модном синтетическом аромате, о скандале в одном из аристократических домов. Белый шум Оникса. Я откинулась на диване, позволяя ему омывать мое сознание.
«…а теперь к главным новостям. Сегодня утром в своей резиденции в секторе Альфа-Игл был найден мертвым Аврелий Мендакс, глава департамента внутреннего аудита Гильдии Сновидцев. Тело было обнаружено его прислугой…»
Я лениво приоткрыла один глаз. Мендакс. Мелкий, въедливый чиновник, известный своей дотошностью и любовью находить нарушения там, где их не было. Пару раз он пытался придраться к моим отчетам, но моя репутация была безупречна.
«…Представители службы безопасности Гильдии сообщают, что на теле господина Мендакса не обнаружено никаких следов физического насилия. Двери и окна его апартаментов были заперты изнутри. Однако, по предварительным данным, причиной смерти стала полная и необратимая дезинтеграция личности вследствие острого психотического срыва».
Я села на диване. Мое внимание обострилось.
На экране появилось голографическое изображение лица Мендакса, сделанное, очевидно, следственным дроном. Даже сквозь цензурную сетку было видно, что его лицо застыло в маске невыразимого, абсолютного ужаса. Глаза были широко открыты и смотрели в пустоту, а рот искривлен в беззвучном крике.
«Источник, близкий к следствию, сообщает, – продолжал диктор своим безэмоциональным голосом, – что, по основной версии, Мендакс стал жертвой изощренной ментальной атаки. Преступник, очевидно, онейропат высочайшего уровня, не просто проник в его сон, но и создал внутри него замкнутую рекурсивную петлю кошмара. Проще говоря, господин Мендакс был заперт в собственном ужасе, переживая его снова и снова, пока его разум не разрушился под чудовищной нагрузкой. По словам наших экспертов, подобная техника требует не только огромной силы, но и… особого, садистского склада ума. Это не убийство, а вивисекция души».
Я смотрела на экран, и холод, не имеющий ничего общего с температурой в комнате, начал медленно подниматься по моему позвоночнику. Рекурсивная петля кошмара. Я знала эту технику. Не из учебников Гильдии – там ее описывали как теоретически возможную, но практически неисполнимую дикость. Я знала ее на другом, более глубоком уровне. Я знала ее «рецепт».
Я знала, что для ее создания нужно взять самый потаенный страх жертвы – не поверхностный, а тот, что гниет на самом дне подсознания. Затем его нужно дистиллировать, усилить эссенцией безысходности и зациклить, как испорченную аудиозапись. Каждый новый виток кошмара должен быть чуть-чуть хуже предыдущего, добавляя новые, незначительные детали, которые делают его еще более невыносимым. Жертва сначала пытается бороться, потом понимает, что это сон, пытается проснуться, но момент пробуждения снова и снова оказывается началом того же кошмара. И так до тех пор, пока граница между сном и явью не стирается, и разум, не в силах вынести это бесконечное падение в бездну, просто… отключается. Сгорает, как предохранитель.
Откуда я это знаю? Эта информация не была воспоминанием. Она была… инстинктом. Словно я была поваром, который, взглянув на незнакомое блюдо, мог в точности назвать все его ингредиенты и способ приготовления. Я почти чувствовала на языке его вкус: горький, с привкусом адреналинового пепла и металлической нотой разорванных синапсов.
И в этот момент Каин, молчавший так долго, снова заговорил в моей голове. Его голос был спокоен. В нем не было ни злорадства, ни триумфа. Только холодная, как космос, констатация.
Аудитор душ получил свою финальную проверку. И не прошел ее. Справедливо.
Я вскочила с дивана. Меня замутило. Та белковая паста, что я съела утром, подступила к горлу. Я бросилась в ванную, едва успев склониться над раковиной. Меня рвало, но выходила лишь горькая желчь. Тело сотрясали спазмы.
Это не было совпадением. Не могло быть. Способ убийства… Он был слишком похож на произведение искусства. Жестокого, чудовищного, но выполненного с таким же извращенным перфекционизмом, с каким я создавала свои «коктейли». Или с каким художник Элиас писал свои картины.
Я выпрямилась, тяжело дыша, и посмотрела на свое отражение в зеркале над раковиной. Мое лицо было бледным, на лбу выступила испарина, в глазах плескался ужас. Это была я. Напуганная, потерянная Лилит.
Но я продолжала смотреть. Я заставила себя не отводить взгляд. И постепенно, очень медленно, что-то в моем отражении начало меняться. Ужас в глазах не исчез, но за ним, в самой глубине зрачков, проступило что-то еще. Холодное. Спокойное. Оценивающее. Уголок моего рта, который я не контролировала, едва заметно дернулся, изгибаясь в подобие усмешки. Это длилось долю секунды, но я это увидела.
Он не просто говорил со мной. Он не просто делился воспоминаниями. Он действовал. Он убил. А я… я была его орудием. Его телом. Его руками.
Я поняла, что поглотила не просто сон. Я впустила в себя действующего убийцу. Или, что было еще страшнее, я стала его новой формой существования. Трещина на фарфоре прошла через всю мою душу, расколов ее надвое. И я больше не знала, какая из этих двух частей – настоящая я. И где теперь проходит грань между мной и той тьмой, что так сладко и так страшно шепчет изнутри, обещая не забвение, а справедливость.
Карта из осколков памяти
Фарфор раковины был холоден под моими пальцами, единственная реальная вещь в мире, который вдруг потерял плотность и превратился в дрожащий мираж. Я смотрела на свое отражение, но видела не лицо, а поле битвы. На нем еще остались следы ужаса – мои, – но они уже отступали под натиском чего-то иного. Холодного любопытства. Оценивающего спокойствия. Его. Он был там, за сетчаткой моих глаз, смотрел сквозь них, как через линзы нового, совершенного инструмента. Я смыла с губ привкус желчи, и вода показалась мне пресной, безжизненной.
Надо было действовать. Паника – это роскошь, растворитель, который разъедает волю. Мой старый мир, построенный на контроле и отстраненности, рухнул. Теперь я стояла на его дымящихся руинах, и единственным способом не быть погребенной под обломками было начать строить что-то новое. Из того, что было под рукой. А под рукой у меня был убийца.
Информация. Мне нужна была информация. Страх рождается из неизвестности. Чтобы контролировать феномен, нужно дать ему имя, изучить его свойства, понять его происхождение. Каин был не просто именем, которым я окрестила свою тьму. Это была гипотеза. И ее нужно было доказать или опровергнуть. Я поглотила не просто сон. Я поглотила причину. Последний вопль души перед тем, как она угасла. И этот вопль теперь эхом отдавался в моем черепе. Чтобы заставить его замолчать, или хотя бы научиться дирижировать этим хором, мне нужно было найти могилу певца.
Ты боишься, – констатировал голос в моей голове. Он не насмехался, просто отмечал факт, как метеоролог отмечает изменение давления. – Твои ладони влажные. Пульс учащен. Ты пытаешься облечь свой животный ужас в респектабельную мантию научного исследования. Мило. Но не обманывай себя. Ты ищешь не информацию. Ты ищешь способ вырезать меня из себя.
Возможно. Но чтобы провести операцию, хирургу нужно знать анатомию опухоли.
Я отвернулась от зеркала. Обратно в Подбрюшье. Обратно в пыльную гробницу Иеремии. Он был отправной точкой. Он продал мне этот яд, и он знал, где его собрали.
Спуск вниз в этот раз ощущался иначе. Раньше я скользила сквозь Подбрюшье, как призрак в защитном коконе своего высокомерия, не видя ничего, кроме грязи и убожества. Теперь же мир раскрылся передо мной в тысяче новых деталей. Я видела не просто ржавчину на металлических балках, а сложную палитру оттенков – от киновари до умбры, – словно на полотне экспрессиониста. Я слышала не просто гул, а сложную полифонию города: скрип сервоприводов, шипение пара из прохудившихся труб, далекий плач ребенка и пульсирующий, как больное сердце, бас из подпольного клуба. Это он, Каин, смотрел моими глазами и слушал моими ушами. Он видел в этом уродстве трагическую красоту, которую я, со своим стерильным восприятием, никогда не замечала. И это пугало меня больше, чем его жестокость. Он не просто делил со мной тело. Он менял мою оптику.
Дверь в лавку Иеремии проскрипела так же, как и в прошлый раз, но звук показался мне более жалобным, словно стон умирающего. Старик сидел за своим прилавком, сортируя кристаллы снов, похожие на тусклые леденцы. Он поднял на меня взгляд поверх своих очков, и я увидела, как в его живых, умных глазах мелькнула тень. Не просто узнавание. Опасение. Он почувствовал перемену.
– Опять ты, – проскрипел он, возвращаясь к своему занятию. Его пальцы, похожие на сухие ветки, слегка дрожали. – Надеюсь, не за добавкой. Тот товар был штучным. Эксклюзивным, как говорят у вас наверху.
Я молча подошла к прилавку, положив на него руки. Мои собственные руки. Но я ощущала их иначе. В них была скрытая сила, уверенность, которой там не было вчера. Я не стала тратить время на прелюдии.
– Мне нужно все, что ты знаешь о доноре.
– Доноре? – Иеремия усмехнулся, не поднимая глаз. – Девочка, через мои руки проходят тысячи снов в цикл. Я не веду картотеку на каждый пустой сосуд, из которого их выкачали. Для меня они – не более чем скот на бойне. Сырье. Тебе ли не знать?
Он пытался вернуть меня в привычную мне роль – циничного профессионала, такого же, как он. Поставить на одну доску. Но я больше не стояла на ней.
Молодец, старик. Хорошая защита. Но он лжет. Он помнит. Такой кристалл не забывают. Надави.
Я наклонилась вперед, понизив голос. Он изменился сам, без моего ведома, стал ниже, с едва заметной хрипотцой.
– Не лги мне, Иеремия. Ты помнишь его. Ты помнишь этот кристалл. Ты сказал, что он выжег сборщика. Ты чувствовал его силу. Ты помнишь тот день, когда он попал тебе в руки, так же отчетливо, как помнишь вкус своего первого синтетического виски.
Старик замер. Его пальцы застыли над россыпью кристаллов. Он медленно поднял на меня голову. В тусклом свете лавки его лицо казалось пергаментной маской.
– Что тебе нужно, Лилит?
– Я уже сказала. Информация. Кто он был? Где жил? Как умер?
Он покачал головой.
– Я ничего не знаю. И тебе не советую копать. Некоторые истории лучше оставлять в могилах, из которых их вытащили.
– У меня нет выбора.
Эта фраза сорвалась с моих губ прежде, чем я успела ее обдумать. И она была абсолютной правдой.
Иеремия вздохнул. Тяжелый, дребезжащий вздох человека, который устал от этого мира и всех его проклятых тайн.
– Он был никем. Просто еще один из Подбрюшья. Талантливый, да. Слишком талантливый для своего же блага. Художник. Рисовал на чем придется, старых панелях, кусках картона. Его сны были… яркими. Настоящими. Такие всегда в группе риска. Они слишком много чувствуют, и элита это любит.
– Имя, – потребовала я.
– У него не было имени, которое имело бы значение. Во всяком случае, для меня. Сборщик, который его принес, называл его просто «Живописец». Сказал, что нашел его в его же студии. Кажется, передозировка дешевой «искры». Обычное дело.
Он говорил слишком гладко. Слишком отрепетированно. Он выдавал мне официальную версию, наживку для дураков.
Слишком просто, – прошептал Каин в моей голове. – Он врет про передозировку. Он боится. Он что-то скрывает. Заставь его. Покажи ему, что ты не та, за кого он тебя принимает. Покажи ему меня.
Я не знала, как это сделать. Но мое тело знало. Я медленно, не отрывая от него взгляда, подняла руку и провела пальцем по пыльному стеклу прилавка, оставляя темную полосу.
– Запах терпентина, – сказала я тихо, и мой голос был уже почти не моим. – И масляной краски. И еще… запах дешевого красного вина. С привкусом корицы. Он любил такое. Они пили его вместе, когда шел дождь.
Иеремия отшатнулся от прилавка, словно я его ударила. Его лицо потеряло свой циничный вид, на нем проступил первобытный, суеверный страх. Он смотрел не на меня. Он смотрел сквозь меня, на того, кто говорил моими устами. Знание таких интимных, сенсорных деталей было невозможно. Это было хуже любой угрозы. Это было доказательством. Доказательством того, что я не просто купила сон. Я стала им.
– Что… что ты такое? – прохрипел он, пятясь назад.
– Я его память, – ответила я, и в этой фразе было больше правды, чем во всей моей предыдущей жизни. – И я хочу знать все. Иначе его память придет к тебе ночью. И она покажет тебе, как умирают от передозировки, Иеремия. Очень медленно. В деталях.
Это сработало. Его цинизм рассыпался в прах. Он бросился к одному из стеллажей в глубине лавки, начал лихорадочно рыться в какой-то коробке, заваленной старыми дата-чипами и сломанными проекторами. Он что-то бормотал себе под нос, проклятия и молитвы вперемешку. Наконец, он вернулся, протягивая мне дрожащей рукой небольшой, потертый инфо-планшет.
– Вот. Все, что у меня есть. Координаты сектора. Номер блока. Не ходи туда, девочка. Клянусь прахом своих предков, не ходи. Там нет ничего, кроме горя. Тот сборщик, который принес кристалл… Он умер через два дня. Не от передозировки. Его сердце просто остановилось. Оно не выдержало эха.
Я взяла планшет. Координаты. Сектор Гамма-7. Один из самых старых и запущенных районов Подбрюшья. Место, куда даже патрули Гильдии совались только крупными отрядами.
– Кто еще знает об этом? – спросила я. Мой голос снова стал моим. Холодным и деловым.
– Никто! – почти взвизгнул он. – Я все стер. Я не хотел, чтобы… чтобы такие вещи лежали у меня в архивах. Это проклятый материал. Забирай и уходи. И никогда больше не возвращайся. Деньги мне не нужны. Считай это платой за мое спокойствие.
Я кивнула, убирая планшет во внутренний карман плаща. Когда я повернулась, чтобы уйти, Иеремия окликнул меня. Его голос был тихим, почти умоляющим.
– Скажи… он… тот, кто внутри тебя… он убил Мендакса?
Я замерла у двери. Вопрос повис в пыльном воздухе, тяжелый и липкий, как паутина. Я не знала ответа. Или не хотела его знать.
– Я не знаю, – сказала я, и впервые за много лет солгала не кому-то, а самой себе.
Я вышла из лавки, оставив старика наедине с его страхами. У меня была карта. Карта, нарисованная на осколках чужой памяти. И она вела в самое сердце тьмы.
В это же самое время, на много уровней выше, в стерильном молчании следственного департамента Гильдии Сновидцев, другой человек изучал другую карту.
Инквизитор Магнус стоял посреди голографической реконструкции апартаментов Аврелия Мендакса. Пространство вокруг него мерцало, сотканное из зеленоватых линий лазерных сканеров. Вот кресло, в котором нашли тело. Вот опрокинутый бокал. Вот инфо-панель, застывшая на новостном канале. Все было на своих местах, застывшее во времени, как насекомое в янтаре. Двое его помощников, молодых и рьяных, что-то быстро говорили, указывая на отдельные точки реконструкции.
– …полное отсутствие следов взлома, инквизитор. Ни физических, ни цифровых. Защитный контур не был нарушен.
– …анализ личных терминалов и счетов не выявил никаких угроз или шантажа. Финансовые дела в идеальном порядке. Врагов, судя по всему, у него было много, но ни у кого не было ни мотива, ни возможности для такого… исполнения.
Магнус не слушал их. Он их слышал, но слова были лишь фоновым шумом. Он смотрел не на реконструкцию физического мира. Он смотрел на то, чего не видели сканеры. На пустоту. На рану, оставленную в самой ткани реальности.
Он был мужчиной средних лет, крепко сбитым, с лицом, словно вытесанным из серого гранита. Коротко стриженные волосы, квадратная челюсть, несколько бледных шрамов на щеке – наследие старых дел на черном рынке. Но главной его чертой были глаза. Светлые, почти бесцветные, они обладали пугающей способностью видеть не предметы, а структуру, не людей, а их намерения. Он был фанатиком. Но его богом был не закон и не порядок. Его богом была Чистота. Ментальная чистота. Для него Оникс был не просто городом. Это был гигантский разум, коллективное сознание, и он был его иммунной системой. А такие преступления, как это, были раковой опухолью, которую нужно было вырезать каленым железом.
– Тихо, – произнес он, и его голос, негромкий, но властный, мгновенно заставил помощников замолчать.
Магнус медленно прошел по комнате. Он не смотрел на улики. Он вдыхал воздух. Он был онейропатом, но его дар был иного рода, чем у тех, кто торговал снами или поглощал их. Он был ищейкой. Он мог чувствовать остаточные эманации, ментальное эхо, которое оставляло после себя сильное переживание. А здесь… здесь эхо было оглушительным.
Комната была пропитана ужасом. Не обычным страхом смерти. Это была липкая, вязкая субстанция безумия. Она въелась в стены, в обивку мебели, в сам воздух. Магнус чувствовал ее, как другие чувствовали сырость или холод. Но сквозь эту удушающую волну он уловил что-то еще. Что-то совершенно чужеродное.
Он подошел к креслу, где умер Мендакс. Закрыл глаза. Его лицо было абсолютно спокойным, словно у хирурга перед сложной операцией. Он протянул руку, не касаясь голографического силуэта, и его пальцы начали совершать в воздухе едва заметные, парящие движения, словно он дирижировал невидимым оркестром. Он настраивался. Он просеивал ментальный шум, отфильтровывая агонию жертвы, чтобы добраться до источника, до «подписи» убийцы.
Каждый онейропат оставлял след. Уникальный, как отпечаток пальца. Сплетение его воли, его техники, его личности. Большинство убийц с черного рынка работали грубо. Их следы были грязными, хаотичными, полными ярости и злобы. Их было легко отследить.
Но это… это было нечто иное.
Магнус нашел его. Тончайшая нить, вплетенная в кошмар Мендакса. Она была холодной. Невероятно чистой. Лишенной всяких эмоций – ни ярости, ни садизма, ни даже холодного удовлетворения. Это была просто… техника. Безупречная, отточенная до совершенства. Смертоносный механизм, сработавший с абсолютной точностью. Словно не человек убивал, а закон природы. Закон гравитации, обрушивший на разум Мендакса астероид.
Но была одна деталь. Одна аномалия. В самой сердцевине этой холодной, безупречной конструкции, в последней точке, где разум жертвы окончательно сломался, Магнус почувствовал это. Микроскопический след. Почти неуловимый. Что-то, что не принадлежало этой ледяной машинерии.



