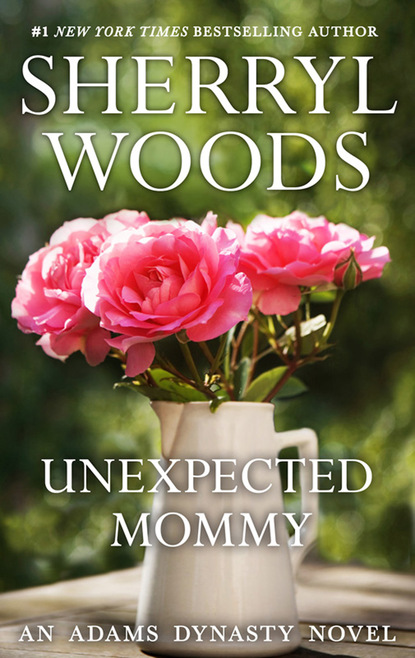Бисквит королевы Виктории

- -
- 100%
- +

© Михалёва Е.А., 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026
⁂


Глава 1
– Невероятная невнимательность, Марина Ивановна. Просто… unerhört und r-r-respektlos[1], – чеканя слова, возмущался Оскар Генрихович тоном таким глубоко оскорблённым, что последнее он раскатисто прорычал на немецкий манер. – Я для чего перед вами распинаюсь? Чтобы вы в облаках витали на моих занятиях?
Марина Быстрова стыдливо отвела глаза и украдкой вздохнула. Всё это она проделала с таким скорбным видом, будто с нетерпением ждала возможности возвратиться на своё место. Вряд ли Марина чувствовала себя виноватой.
Можно ли обвинять юных девушек в излишней мечтательности? Пожалуй, не только нельзя, но попросту бесполезно. Любая смолянка яркий тому пример. Требования в стенах института весьма суровы, ведь интеллектуальное просвещение девиц тесно связано с воспитанием в них христианского благочестия, не менее строгого, чем светские правила. И всё же высокая нравственность сочетается у девушек с особой чуткостью души. Она расцветает вместе с их красотой и не умещается ни в каких рамках. К счастью, большинство учителей это понимали. К несчастью, Оскар Генрихович Бломберг к ним не относился.
Угораздило же Марину замечтаться о чём-то своём как раз в тот момент, когда немцу вздумалось вызвать её. Теперь девушка стояла у доски и с покорностью выслушивала нравоучения перед притихшими одноклассницами.
В прохладной комнате царила такая напряжённая тишина, что учителю даже не нужно было повышать голос, чтобы его отлично услышали на последних партах. «Белые» смолянки сидели ровно и неподвижно. Они не сводили с немца глаз, пока Оскар Генрихович важно вышагивал вдоль графитовой доски от одной стены к другой, как сердитая цапля. Стук его каблуков о паркет звучал особенно грозно.
– Я не требую от вас невыполнимого: исправно трудиться на занятиях, слушать внимательно и не забывать, что до вашего выпуска осталось меньше года, – важным тоном продолжал учитель. Немецкий акцент добавлял каждой фразе резкости. Чем сильнее Бломберг сердился, тем заметнее грассировал. – Что из вас выйдет путного в жизни, если вы не в состоянии слушать, а вместо этого любуетесь садом из окна?
Теперь он не просто распекал одну лишь Марину, а обращался ко всему классу.
Бломберг любил свой родной язык. Он совершенно не скрывал, что его очень беспокоило нарастающее напряжение между его родиной и Российской империей, в коей он служил. Ходили слухи, что Оскар Генрихович с его отменными рекомендациями пробовал устроиться учителем у великих княжон, но его кандидатуру не рассмотрели, даже невзирая на протекцию самой Императрицы Александры Фёдоровны. Однако в Смольном Бломберга приняли весьма радушно, выделили для него просторный кабинет с хорошей мебелью и определили преподавать в старших классах. Несмотря на то что Оскар Генрихович проработал в институте чуть больше месяца, относились к нему с уважением.
Бломберг умел себя правильно подать. Даже сейчас, когда пришёл в возмущение из-за невнимательности ученицы, он оставался важен и грозен.
– Я мог бы пожаловаться на вас инспектрисе или классной даме, но не стану этого делать, потому как вы уже не дети, чтобы получать дисциплинарные наказания, – строго говорил Оскар Генрихович, меряя шагами комнату. – Однако я не потерплю пренебрежительного отношения к моему предмету. Вы обязаны это усвоить.
Варвара Воронцова, тихо сидевшая на последней парте, украдкой глянула на часы, висевшие над графитовой доской между портретами Иоганна Вольфганга фон Гёте и Генриха Гейне. До конца урока оставалось двадцать минут, значит, воспитательный монолог мог изрядно затянуться.
Варя перевела взгляд на Марину. Подруга стояла, смиренно опустив очи, и густо краснела так, что на глазах выступили слёзы от смущения. Весь вид девушки вызывал несомненную жалость. Впрочем, Бломберг вряд ли таковую испытывал. Сейчас во всей его фигуре читался образ неоценённого радетеля.
Оскар Генрихович был высок ростом. С безупречной осанкой и такими же манерами, он всегда одевался в превосходные австрийские костюмы из приличной шерсти и сукна коричневых и горчичных оттенков. Под пиджаки он носил жилетки, а галстуки повязывал исключительно виндзорским узлом с золотой булавкой. Короткие, чуть вьющиеся светло-русые волосы Бломберг зачёсывал набок, не скупясь на помаду с запахом лимона. Рыжеватая борода и усы всегда были аккуратно подстрижены, а кончики усов деловито глядели вверх. Дополнением служили большие круглые очки в серебряной оправе. Взгляд его зелёных глаз всегда выражал лёгкую утомлённость.
Варя бы назвала Бломберга мужчиной весьма интересным, несмотря на его возраст, если бы не уши. Они у Оскара Генриховича были большие и оттопыренные, с крупными, мясистыми мочками, которые багровели, когда он сердился. Совсем как теперь.
Он завёл речь об интеллектуальном развитии современных девиц и их полном нежелании соответствовать высоким требованиям общества к женскому уму, когда недостаточно быть лишь хорошей хозяйкой и благовоспитанной дамой.
Быстрова покраснела ещё гуще. Она закусила губу, чтобы не расплакаться у всех на виду. Смяла край белой манжеты на левом рукаве.
Варе сделалось искренне жаль Марину, с которой она была дружна с самого поступления. На её месте могла оказаться любая.
Занятия немецким у Оскара Генриховича особым разнообразием не отличались: каждый урок они делали упражнения на грамматику и переводили отрывки из книг с прозаичной монотонностью. Ничего удивительного, что натуры особо мечтательные отвлекались. Сама Воронцова порой прятала в книгу листочки с записями, чтобы повторять японские слова или заучивать фразы для своих дополнительных занятий, которые ей позволялось посещать дважды в неделю вне стен института. Но попалась не она, а Быстрова.
Марина Ивановна, дочь статского советника, была яркой и весьма миловидной девушкой с тёмно-каштановыми кудрями. Нрав она имела озорной и крайне романтичный. Быстрова с трудом высиживала особо скучные уроки, вроде немецкого или химии. Но если учителя последнего предмета Марина давно боялась, то с новым немцем столкнулась впервые.
Она украдкой взглянула на Варю, ища у той поддержки. Воронцова едва заметно качнула головой и медленно сложила ладони домиком. Мол, кайся и умоляй о прощении.
Оскар Генрихович пустился в пространные рассуждения о роли образования в жизни современных женщин, что оказалось намного занимательнее обычного перевода текста. Его речь звучала переливчатым речитативом с ударением на первых словах в каждом предложении. Некоторые слова Бломберг растягивал, а другие в волнении заменял на немецкие.
Наконец он утомился и вдруг, резко остановившись, развернулся к Быстровой, будто вспомнил о ней. Он пристально глянул на девушку и отчеканил:
– Что же вы молчите, Марина Ивановна?
– Entschuldigen Sie bitte, Herr Blomberg[2], – пролепетала Быстрова и виновато улыбнулась.
Немец поджал губы. Окинул взглядом зарумянившуюся смолянку, пребывавшую на грани между слезами и обмороком, и, наконец, смилостивился.
– Впредь будьте внимательнее. А теперь займите своё место, – он повернулся к классу. – Варвара Николаевна, хотя бы вы следили?
– Да, разумеется, – с готовностью ответила Воронцова, поднимаясь с места вместе с раскрытой книгой. Страницы она придерживала так, чтобы её собственные «грехи» ненароком не высыпались на пол. – Мне продолжить?
– Будьте так любезны.
Варя приступила к выразительному чтению с того места, на котором запнулась Марина. Ей досталось скучное описание дождливой осенней погоды, такой же, какая стояла сегодня в Петербурге. С той разницей, что за окном лишь слегка накрапывало и от сырости листва на деревьях казалась медной, в то время как в романе речь шла о настоящем холодном ливне.
Оскар Генрихович отошёл к окну, встал спиной к классу, глядя на продрогший октябрьский сад Смольного.
Немец заложил руки за поясницу. Поднял подбородок. Задумался. Или принял таковой вид, потому что Варю он ни разу не перебил, пока она читала и переводила абзац за абзацем.
Воронцова успела устать к тому моменту, когда урок завершился, и Бломберг милосердно отпустил класс. Последней уходила Быстрова. Марина поборола стыд и подошла к учителю, чтобы ещё раз принести извинения за свою невнимательность. Что ответил ей немец, Варя не услышала.
В коридоре Воронцову поймала под руку другая её подруга, Эмилия Драйер, – рыжая, миниатюрная и робкая девушка. У той, дочери обрусевшего немца, проблем с германским языком никогда не возникало, да и вообще на занятиях у Бломберга Эмилия всегда чувствовала себя как дома. Однако даже она сегодня выглядела бледной и взволнованной.
– Право же, страху натерпелись, – шепнула она Варе по пути на следующее занятие. – Я было подумала, он нажалуется нашей Maman[3] или вызовет инспектрису, мадам Фурнье.
– А я, что он нам в наказание задаст всю книгу до конца переводить, – также едва слышно ответила Воронцова. – Как всё-таки чудесно, что Оскар Генрихович не Пётр Семёнович.
– В самом деле, как дивно.
Девушки обменялись выразительными взглядами, а потом, соприкоснувшись головами на ходу, с явным облегчением тихо засмеялись. Улыбки они прикрыли ладонями, чтобы никто не заметил их неуместной радости и не сделал нового замечания. В случае проступка надлежало каяться, а не веселиться.
Но как тут было не обрадоваться? Если бы на месте Бломберга и вправду оказался их суровый учитель химии, Пётр Семёнович Ермолаев, он бы задал в наказание двойное домашнее задание, а после замучил контрольными работами. Ничуть не лучше стала бы и жалоба Maman, то есть начальнице Смольного института светлейшей княжне Елене Александровне Ливен, которую воспитанницы боялись и боготворили. Тут уж вовсе стыда не оберёшься. Не говоря уже об инспектрисе мадам Фурнье, особенно строго следившей за порядком. Её даже другие учителя остерегались.
Девушки миновали длинный, тускло освещённый коридор, совершенно сумрачный из-за пасмурной погоды. Там весь класс немного задержался, чтобы дождаться Марину. Быстрова нагнала их, вид при этом имела несколько растерянный и утомлённый. Одноклассницы тотчас обступили её тесной белой стайкой.
– Оскар Генрихович вас помиловал? – с нетерпением спросила Анна Шагарова.
– Да, но грозился много спрашивать меня всю будущую неделю, – горячо и с облегчением прошептала Марина.
– Миленький, добренький Оскар Генрихович, – весело защебетала младшая сестра Анны Наденька, которая пошла учиться вместе со старшей Шагаровой в один год, не выдержав разлуки.
Она едва не захлопала в ладоши, восторгаясь великодушием немца, но Варя поймала её за руку и негромко шикнула, потому как внизу лестницы показалась их классная дама.
Марья Андреевна Ирецкая поднималась по ступеням в явной спешке. Наставница хмурилась и поджимала тонкие губы, будто пребывала в дурном расположении духа. В такие моменты она всегда напоминала Варе сердитую сову с большими оливковыми глазами и маленьким, слегка загнутым, подобно миниатюрному клюву, носом. Небольшой рост, убранные в пучок седеющие волосы и форменное серо-синее платье лишь усиливали это впечатление. Со стороны Ирецкая всегда казалась слегка недовольной и чересчур требовательной. Однако воспитанницы знали, что их Марья Андреевна – человек предельно терпеливый и любящий. Стоило наставнице завидеть свой класс, как выражение её лица переменилось.
– Дамы, урока словесности не будет, – без долгих вступлений объявила она. – У Артура Альбертовича сильнейшая мигрень. Ступайте в класс рукоделия и помогите младшим девочкам. А после пойдём с вами на прогулку.
– Марья Андреевна, на улице дож-ж-ж-жик, – жалобно протянула Эмилия.
– Возьмёте зонты. Ничего страшного. Там просто крапивка, – невозмутимо ответила Ирецкая, которая словом «крапивка» называла лёгкую морось, а затем жестом поторопила девушек проходить. – Не толпитесь на лестнице. Ступайте на рукоделие.
Воспитанницы послушно построились парами и направились в нужную комнату под придирчивым взглядом Марьи Андреевны. Казалось, что она оценила всех прошедших мимо девушек, насколько ровна их осанка и опрятны платья, фартуки и косы. Никаких замечаний не прозвучало.
Шитьё и всякого рода изящные работы входили в число обязательных занятий в Смольном. Считалось, что образованная благовоспитанная девица должна снабжать себя сама, а в случае необходимости и заработать на жизнь честным трудом. Разумеется, для богатых дворянок рукоделие представляло собой лишь благопристойный досуг, но для девушек попроще подобные навыки порой были действительно необходимы.
Девочек приучали к труду с самого поступления, невзирая на их положение в обществе. Воспитанницы младших классов учились штопать, вязали чулки и шили бельё, старшие же осваивали сложные техники вышивания и могли сшить себе пристойное платье. Готовые вещи можно было отдать на благотворительность или же продать, а вырученные деньги пустить на покупку новых принадлежностей и материалов для рукоделия или отложить на будущее. К выпуску каждая смолянка не только имела комплект собственноручно изготовленных вещей, но и забирала с собой все сделанные на уроках выкройки и чертежи.
Порой наставницы жаловались на урезанное снабжение и нехватку внутренних средств института для покупки особо дорогих материалов, но тем не менее в классах было всё необходимое: у окон стояли большие пяльцы, на столах стопками лежали вышивки и бельё, а в специальных комодах хранились нитки, пуговицы, сантиметры, линейки, пряжа, вязальные крючки, спицы и прочее. Имелись даже манекены для примерки. К старшим классам смолянки знали в этой комнате содержимое каждого ящичка, потому как проводили здесь уйму времени.
Свободные часы после учёбы, досуг по субботам, когда в расписании стояло всего два урока, или в случае внезапных отмен занятий называли вакациями. Такие вакации принято было проводить именно за рукоделием, в том числе за ремонтом белья.
В кабинете уже вовсю трудились младшие девочки в коричневых платьях. За цвет формы, соответствующий возрасту и классу, смолянок так и прозвали: «кофейные», «голубые» и «белые». Эти прозвища прочно закрепились за девушками с самого основания Смольного. Даже когда старшеклассницы надевали зелёные платья, их всё равно звали «белыми» смолянками.
Старших девушек по праву считали наиболее ответственными и сходными с идеалом, ведь близился их выпуск, когда самые лучшие ученицы могли получить особый знак отличия – «шифр». Золотую букву «Е» на расшитом белоснежном банте. Эта награда не просто выделяла отличниц, но позволяла девушкам стать фрейлиной самой Императрицы.
Но до столь высокой почести нужно было дорасти и пройти «кофейные» и «голубые» классы, которые плохо уживались между собой. Однако если «голубые» могли конфликтовать даже с учителями, то младшие девочки уважали и побаивались старших наставниц и просто обожали «белых», которым старались всячески подражать. Поэтому появление Вари и её одноклассниц в кабинете рукоделия несказанно обрадовало «кофейных» девочек и их наставницу, Дарью Сергеевну Груздеву. Последней пришлось приложить усилия, чтобы унять повскакивавших с мест воспитанниц.
Старшие споро распределили задания. Кто-то взялся за собственные незаконченные работы, кто-то стал помогать младшим, а кто-то приступил к починке белья. По иронии классная дама «кофейных» попросила Быстрову почитать девочкам вслух за работой. К счастью, приготовленная книга была на французском, и Марина с радостью согласилась.
Варя подумывала повязать в уголке, но к ней подошла Катенька Челищева и, краснея, робко прошептала:
– Варвара Николаевна, вы не могли бы объяснить мне схему, никак в толк не возьму, что к чему. Madame уже сердится на меня.
– Разумеется, mon ange[4], – Воронцова ласково улыбнулась девочке, откладывая собственное вязание в сторону. – Несите всё сюда. Сейчас разберёмся в два счёта.
Маленькую, тихую Екатерину Михайловну Челищеву старшие смолянки очень любили. Они с теплотой звали её Кэти и всячески опекали. Девочка была воспитанной и весьма способной к иностранным языкам. Она стеснялась чужих, не любила шумных компаний, а в классе не имела ни врагов, ни близкой подруги. Вероятно, потому что Катенька была фактически сиротой. Маму она потеряла за год до поступления в институт, а отец служил где-то за границей с самого рождения девочки. Говорили, что он забыл о дочери, а то и вовсе умер на чужбине. Длинные летние каникулы Кэти проводила у кого-нибудь из подруг покойной матери, а всё прочее время оставалась при институте. Старшие смолянки без всяких напоминаний присматривали за этим милым ребёнком с большими голубыми глазами и ангельским личиком. Сама же Кэти более всех тянулась именно к Варе, которая охотно помогала девочке с учёбой.
Челищева с детской прямолинейностью расспрашивала более взрослую подругу обо всём на свете, а с особым любопытством – о братьях и сестре Варвары. Кэти смущённо признавалась, что даже немного завидует, потому как у самой никого нет. Вот и теперь, едва девушки устроились за небольшим столиком под лампой, Челищева вкрадчиво прошептала:
– Как поживает ваше уважаемое семейство, Варвара Николаевна?
Варя разложила схему вязания и пришла к выводу, что перед ней варежки с замысловатым узором в виде ветвистой ёлочки. Кэти могла бы разобраться при желании и самостоятельно, но, вероятно, просто искала её компании.
В классе стоял лёгкий шум. Стучали спицы, и шелестели ткани. Смолянки время от времени переговаривались за работой. Вдобавок Марина Быстрова читала довольно громко, а они вдвоём сидели дальше всех в уголке, поэтому вряд ли классная дама заметила бы их общение на посторонние темы.
– Все здоровы, благодарю вас, – негромко ответила Варя. Она придвинулась к Кэти поближе, села так, чтобы сидеть к классу вполоборота, а плечом закрывать девочку. – Папенька занят на службе в министерстве, ни минутки свободной у него нет. А вот матушка навещает меня по выходным.
– А что же ваша старшая сестра, Настенька? – робко полюбопытствовала Челищева, распуская свою неудавшуюся попытку, в которой едва можно было признать зелёную варежку. – Не в положении ли ещё? Ах, простите мою нескромность, но мне нестерпимо хочется знать, когда же вы станете тётей, душечка моя Варвара Николаевна. Ваша Настенька такая красавица. Я уверена, что детки у них с Андреем Львовичем будут сущие ангелы.
Варя с трудом сдержала улыбку. А Кэти, заметив её лёгкое замешательство, снова густо покраснела.
– Извините, если вмешиваюсь в личное, – девочка опустила глаза на спутанную пряжу.
– У них всё хорошо, но о детях мне пока не говорили, – мягким, ласковым тоном ответила Воронцова. – И я с вами согласна, что наверняка они у моей сестры будут чудо как хороши, – Варя заметила счастливую улыбку на губах девочки и продолжила рассказ о братьях: – Роман сейчас служит обер-офицером в Москве. Маменька поведала, что под его началом новая рота. Костя и Мишенька заняты учёбой в гимназии. С Мишей хлопот никаких, а вот Костя снова подрался. Благо не во время занятий, а в выходные. Но всё равно получил суровый выговор от своего начальства.
Стоило Варе заговорить о младших Воронцовых, как глаза Кэти вспыхнули. С Мишей они были одного возраста. Братья как-то приезжали в Смольный вместе с мамой, графиней Капитолиной Аркадьевной. Кэти перекинулась с ними всего парой вежливых фраз, но наверняка уже успела вообразить себе возможную крепкую дружбу.
– Ах, бедный Константин Николаевич, – Челищева прижала к груди распущенное вязание. – Уверена, у его проступка имелась благородная причина.
Варя только усмехнулась. Задиристому Косте причиной для драки мог стать любой неосторожный взгляд. Отец множество раз грозился отдать сына в кадетское училище, если тот не прекратит безобразничать. Да толку? Граф Воронцов больше времени уделял службе в Министерстве путей сообщения. Воспитание младших детей ложилось на плечи супруги, а у Капитолины Аркадьевны были свои методы и подходы к каждому ребёнку. Мать боялась, что чрезмерная строгость только сломает Костю, в то время как период буйного отроческого протеста он обязательно переживёт.
Но разочаровывать Кэти своими наблюдениями Варя не решилась, поэтому просто сказала:
– Быть может, и была таковая. У моего брата правду легко не узнаешь.
Челищева мечтательно вздохнула, а потом вдруг зашептала:
– Хорошо вам, миленькая Варвара Николаевна. Такая семья у вас большая. Вы себе даже не представляете, как вам хорошо, – девочка грустно улыбнулась. – У меня вот никого, кроме Томми.
Воронцова, которая уже успела на собственных спицах набрать первые ряды на пробу согласно схеме, нахмурилась.
– Томми?
– О, я вам разве не рассказывала о нём? – оживилась Кэти и опасливо выглянула из-за плеча Вари, чтобы убедиться, что их беседа никому не мешает. – Томми – пёсик моей покойной матушки. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Премиленький и преласковый. И с таким выражением на мордочке, словно он всё время чему-то удивляется. Томми любому человеку радуется, как родному. А ещё он очень любит играть с мячиком. И храпит смешно. Спит прямо на спине и храпит, как человек, представляете? Вы бы его видели.
Девочка хихикнула, вспоминая любимую собачку. Кэти так искренне радовалась, что и Варя невольно заулыбалась. Её маленькая подруга упоминала, что очень любит животных, особенно собак, но о том, что у той есть питомец, Воронцова прежде не знала.
– Кто же за ним присматривает, пока вы в Смольном почти круглый год? – Варя вручила Кэти спицы и забрала у неё окончательно перепутавшиеся нитки, которые превратились в несуразный комок, чтобы попытаться размотать их позже.
– О да, мой милый Томми, – девочка округлила губы и печально свела вместе бровки, будто говорила о разлуке с человеком, а не с собакой. – Пока я здесь, он гостит у тётушки Анны. Это мамина подруга детства. Она славно ладит с Томми.
По словам Кэти, все кругом были хорошими, ласковыми и добрыми людьми, но разуверять её Варя не стала. Хотя бы потому, что на них строго взглянула классная дама Челищевой, пресекая всякие разговоры за работой.
Груздева неспешно прохаживалась между столами, чтобы посмотреть, чем заняты воспитанницы. Теперь она приблизилась и к ним, чем заставила Варю с Катей умолкнуть и переключиться на обсуждение вязальной схемы.
Воронцова принялась объяснять и показывать. Кэти слушала и со всем старанием повторяла за Варей все движения. Споро защёлкали спицы, и классная дама «кофейных» перенесла своё внимание на других воспитанниц.
Челищева дождалась, пока наставница отойдёт подальше, и снова обратилась к Варе. Она говорила так тихо, будто открывала страшную тайну:
– Минувшим летом я как раз гостила у тётушки Анны. Вообразите, я даже пуговицы с трудом пришиваю, хоть и практикуюсь постоянно, уже целую коллекцию собрала. А тут вдруг мне захотелось связать для Томми тёплую жилетку на зиму, но вышло столь несуразно, что едва можно было разобрать, что это такое. То ли шапка, то ли кофта для куклы. И представляете, тётушка подумала, что это я связала такой чехол для чайника. Знаете, как некоторые старушки любят натягивать сверху на посуду, чтобы она подольше не остывала? Ах, я совсем не умею объяснять! – Кэти залилась прелестным румянцем и тихо засмеялась. – Тётушка приказала натянуть это безобразие на большущий заварочный чайник из её любимого английского сервиза, а я постеснялась признаться, что это такое на самом деле.
Варя округлила глаза, чувствуя, как сама вот-вот засмеётся, настолько заразительным оказалось веселье Кэти.
– А вы уже успели примерить жилет на собаку?
– Да, – девочка закивала и прикрыла рот ладошкой. – Ах, зачем же я промолчала. Ужас, правда? Тётушка ещё хвалить меня вздумала и гостям потом рассказывала, какой я рукодельницей расту. Стыдно, право.
– Вовсе нет, – возразила Воронцова. – По-моему, премилый анекдот вышел. Главное, больше его никому не рассказывать. Особенно самой тётушке.
Они вновь обменялись улыбками. Кэти будто почувствовала себя увереннее, даже работа у неё спорилась намного лучше. Варе почти не приходилось поправлять её.
– И к чему нам только все эти вязания и вышивания? – хмыкнула Челищева, при этом она слегка опустила веки, отчего её личико приобрело взрослое и крайне недовольное выражение, которое показалось Воронцовой забавным. – Разве же это модно?
– Это всегда модно, – мягко возразила Варя. – Знаете, как говорила мудрая основательница нашего института? Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна[5]. Это ведь не только про науки сказано. Вообразите себя пожилой дамой, которая проводит досуг за изготовлением премилых вещей, которые с любовью хранит вся её семья. Разве же сделанные своими руками предметы не дороже заводского шитья и вязания? Думаю, ваша тётушка была полностью права, когда совершенно искренне нахваливала ту грелку на чайник.